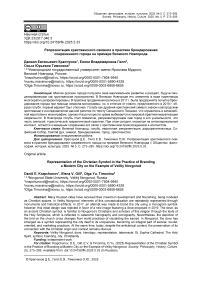Репрезентация христианского сим-вола в практике брендирования современного города на примере Великого Новгорода
Автор: Крапчунов Д.Е., Гилл Е.В., Тимонина О.Ю.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
Многие русские города получили свое максимальное развитие и расцвет, будучи смоделированными как христианские пространства. В Великом Новгороде его элементы в виде памятников многократно репрезентированы. В практике продвижения региона в 2017 г. была предпринята попытка брендирования города при помощи символа-монограммы, но, в отличие от нового, предложенного в 2019 г. образа голубя, первый вариант был отклонен. Голубь как древний христианский символ знаком новгородским христианам и исследователям данной религии по тексту Священного Писания, что отразилось в катакомбной иеротопии и иконографии, однако птица на кресте храма выбивается из мировой практики визуализации сакрального. В Новгороде голубь стал символом, репрезентирующим сам город в его уникальности, это часть светской, туристической, маркетинговой практики. При этом сегодня, несмотря на антиклерикальный контекст, остается очевидным сохранение его связи с христианским происхождением и контекстом.
Великий Новгород, голубь, иеротопия, репрезентация, дарохранительница, Софийский Собор, Святой Дух, символ, брендирование, город, христианство
Короткий адрес: https://sciup.org/149147975
IDR: 149147975 | УДК: 23/28:7.046.3 | DOI: 10.24158/fik.2025.5.33
Текст научной статьи Репрезентация христианского сим-вола в практике брендирования современного города на примере Великого Новгорода
Признавая российскую государственность результатом слияния и христианизации разрозненных, зачастую враждующих восточнославянских, балтских, тюркских, финских и даже иранских и германских племен в единый русский народ, российскую цивилизацию, сегодня, в мире постправды (Николаев, Юрченко 2021), постнеклассической науки (Черникова, Николина, 2022) и даже и постхристианства (Руткевич, 2021), мы не можем не говорить о христианском содержании семиотической организации и герменевтики российских городов, особенно тех, история которых насчитывает сотни и даже тысячу лет. В условиях необходимого и вынужденного выбора идентичности, самоопределения сегодня особенно актуальным становится поиск окружающих нас смыслов, включающих в качестве фундамента культурного кода наше историко-культурное прошлое (Федотова, 2014).
Христианское содержание русской традиционной культуры отразилось в организации городского пространства русского мира. Вопросам его прочтения посвящены труды многих исследователей, отмечающих практику трансфера и актуализации сакрального в устройстве и пространственной организации городов христианского мира (Лидов, 2009; 2011; 2023; Аванесов, 2022; Сазонова, 2015; 2021). Для этого прочтения исследователи обращаются к начальной или средневековой истории рассматриваемых городов, в том или ином внешнем визуальном проявлении сохранившейся, дошедшей до наших дней или нашедшей отражение в исторических источниках. При выявлении и верификации модели христианской иеротопии городского пространства, с одной стороны, возможно сравнение образа с первообразом или их взаимное наложение, когда зритель-читатель узнает прототип в облике современного (исторического) города. С другой – можно говорить о прочтении христианских образов, их узнавании в современном городском пространстве через встречу с образами и знаками, символами, воспринимаемыми современниками в качестве «своих», являющихся частью конструируемой осознаваемой или нет христианской идентичности.
Говоря о ее маркерах в современном городе, безусловно, их основанием следует признать текст Библии как ключ к пониманию и верификации христианского воззрения, а также свидетельства жизни Церкви в пространстве и времени разных эпох – предания, знаки и символы, порождаемые ею. Исследователь христианской иеротопии современного города может считывать их по визуальным законам, соответствующим различным периодам истории. Кроме того, исследователь, будучи причастен Церкви, может быть субъектом творения новых образов через актуализацию сакрального. В связи с этим в организации пространства современного города есть место промыслу, когда некоторые принципы, доминанты, знаки и образы, возникавшие в прошлом и продолжающие появляться сегодня, возможно, без целенаправленного, умышленного творчества градостроителей, складываются в единую иеротопию, считываемую не только современниками: горожанином и туристом – христианами, но и исследователем, имеющим предпонимание, по Гадамеру (Гадамер, 1988: 328–329).
Таким образом, носитель христианской идентичности и культурного кода христианской цивилизации считывает эти знаки актуализации и трансфера сакрального пространства в современной повседневности, даже если они не закладывались их создателями, даже если они отражают более позднее явление христианской культуры и даже более позднее, чем появление самого города.
В Великом Новгороде, безусловно, городе-иконе, который сочетает в себе и репрезентирует разные сакральные пространства, сегодня христианин не может не видеть доминирования одного из главных христианских символов. Граф А.С. Уваров, размышляя о двух способах выражения символического языка, словесного (или речевого) и визуального (или образного), высказал предположение, что они, эти образы, неразрывно сосуществуют со времен древней Церкви, но все же словесный первичен по отношению к визуальному1. К такому же выводу пришел Г.М. Прохоров, когда анализировал литературные памятники русского средневековья. Он утверждал, что «средневековое изобразительное искусство находится в прямом подчинении у литературы. За общим содержанием и отдельными образами фресок, икон, миниатюр (и, полагаем, сюда, конечно, следует добавить образы вышивок), стоят литературные, выраженные в слове сюжеты, образы, идеи» (Прохоров, 1987: 20).
Сегодня на примере Великого Новгорода можно говорить о преемственности сакральных символов на протяжении веков. Они присутствуют даже в современных маркетинговых практиках, их репрезентируют при брендировании территорий. Так, в процессе разработки Концепции развития туризма в Новгородской области по поручению губернатора в 2017 г. производился поиск релевантного региону, его истории и смыслам визуального знака2. В представленной в 2017 г. АНО «Туристический офис “Русь Новгородская”» на рассмотрение Наблюдательного совета концепции обосновывалось использование в брендировании территории в качестве основного знака брендбука композиции в виде буквы «Ж» с удлиненной вертикальной чертой (рис. 1).
LLKLIK*
ПФ^^К^1>
Рисунок 1 – Англоязычный фирменный блок брендбука «Русь Новгородская», 2017 г.
Figure 1 – English-Language Brand Block of the Brandbook “Rus Novgorodskaya”, 2017
Великий Новгород в представленной концепции предлагалось рассматривать как родину русского православия. В Концепции это обосновывалось тем, что христианство восточного обряда, сформировавшее облик и культуру русского народа, прекратило раздоры и войны восточнославянских племен. А представленный символ является монограммой имени Иисуса Христа – наложением буквиц I и Х. Авторы настаивали на том, что такое прочтение указанного знака обусловило его размещение на саркофаге святого Климента, одного из мужей апостольских, который первым проповедовал христианство на территориях, входящих ныне в состав современной России. Данный памятник – саркофаг святого Климента – напрямую связан с историей Новгорода, так как именно в нем упокоился по преставлении князь Ярослав Мудрый, оставивший в сердцах новгородцев и в топонимике города свое имя навсегда. Дворище на Торговой стороне и сегодня называется Ярославовым. При этом в городе имеется храм самого святого Климента Римского. Таким образом, предложенный знак был предложен как визуализация русского православия – основы этнокультурной и этноконфессиональной истории Руси и Великого Новгорода с момента христианизации города, как декларация его непосредственной связи с самым ярким правителем Новгородской земли и древнерусского периода в истории России, восходящая к Херсонесу как источнику веры князя Владимира и самих новгородцев.
Описываемый знак – буква всех славянских кириллических алфавитов (восьмая – в русском, белорусском, сербском и македонском, седьмая – в болгарском и девятая – в украинском), восходящая к монограмме имени Иисуса Христа. Таким образом, этот знак вполне знаком и понятен представителям славянских народов, воспринимается ими как свой, отличающий их от остальных этносов. В церковнославянском алфавите данная буква называется «живѣте», что переводится как «живите» (повелительное наклонение от «жити»), связывая данный знак с символом жизни. Исходя из христианской сотериологии, жизнь есть Сам Христос, поэтому данная монограмма на Руси воспринималась как знак Истинной Жизни.
Одновременно она семиотически может возводиться не только к имени Христа, но и быть обозначением креста, который воспринимался в культуре Руси и всего христианского мира как символ победы над смертью, как дарующий жизнь. К такому сакральному восприятию этой буквы подталкивает и то, что в кириллице, будучи в начале алфавита и в отличие от соседних букв, она не имеет числового значения, что может указывать на ее священный контекст и табуированность вне сакрального пространства. В то же время в глаголице, более раннем по происхождению алфавите, эта буква имеет числовое значение 7, которым обозначалась божественная полнота сего века. Кроме того, рассматриваемая кириллическая буква использовалась также в письменностях некоторых неславянских народов России и сопредельных стран, где на ее основе построены новые буквы, что увеличивает потенциал узнавания и принятия предложенного знака в туристической практике.
В проекте Концепции развития туризма Новгородской области, разрабатывавшемся в 2017 г., указывалось, что предлагаемый знак неоднократно встречается на памятниках архитектуры Новгородской области, в том числе на деревянных домах и храмах, представленных в Великом Новгороде в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». В городском пространстве этот знак можно увидеть не только в дереве, но и в камне (храм Феодора Стратилата на Щиркове улице и др.), текстиле (на орнаментах вышитых и браных полотенец – обрядовых, культовых, декоративных украшениях русских храмов и домов – убрусах, набожниках, утиральниках, рушниках).
По мнению А. Катаева, руководившего группой разработчиков Концепции, рассматриваемый знак напоминает форму древка треножника-держателя – главной святыни Новгородской земли – иконы Божией Матери XII в. «Знамение», хранящейся сегодня в кафедральном Софийском соборе. Во время обрядов и традиций новгородцы в прошлом брали чудотворную икону за треножник – основу и таким образом, возвышая, переносили с места на место1.
Однако проект Концепции был отклонен Наблюдательным советом. Несмотря на все перечисленные выше и иные ее аргументы и уже состоявшееся внедрение знака и пробное использование его в качестве центрального элемента регионального туристического офиса «Русь Новгородская» под брендом «Жива Земля Новгородская», всю простоту и легкость в начертании и исполнении для маркировки им фирменной, сувенирной продукции, он не прижился в качестве знака регионального брендбука. Дальнейшее его использование происходит лишь силами некоторых коммерческих предприятий региона. Объяснение этому феномену «отторжения» рассматриваемого знака можно найти в работах А.С. Уварова, который говорит, что не все в христианской культуре ранней Церкви подвергалось сакрализации и переводу в знаковую символическую сферу, а лишь конкретные темы вероучения, таинств, определенные молитвы, раскрытие которых предполагало не только словесный, но и образный язык disciplina arcani (Уваров, 1908: 6).
Спустя некоторое время для брендирования Новгородской области был утвержден и сегодня широко используется в регионе новый брендбук, разработанный А. Сверчковым (Renaissance Art Group). С точки зрения эстетики принятый логотип близок гербам туристических городов, характерным для визуальных практик советского периода. Однако содержание нового герба моделирует христианское прочтение истории и репрезентирует христианскую организацию современного пространства Великого Новгорода (рис. 2).

Рисунок 2 – Логотип брендбука «Русь Новгородская», 2018 г.
Figure 2 – Logo of the Brandbook “Rus Novgorodskaya”, 2018
В нижнем сегменте утвержденного логотипа угадываются волны озера Ильмень и реки Волхов, других многочисленных озер и рек региона. Над волнами стоит аркада Гостиного двора, отсылающая еще и к облику многочисленных храмов Новгородской земли, значимой частью архитектуры которых являются арки и своды. В верхней части герба справа помещен купол православного храма луковичной формы, характерной для русской традиции. Действительно, в Великом Новгороде 37 объектов ЮНЕСКО, самое большое количество храмов домонгольского периода на территории исторической Руси. И хотя храм на логотипе визуально не похож на Софийский собор, но в качестве символа репрезентирует именно его, что следует из трактовки разработчика. Этот храм вместе с птицей в левом сегменте верхней части щита прочитывается именно как Софийский собор – главный храм Великого Новгорода и региона, древнейший русский храм на территории современной России. Именно к нему «ведет» главная улица Софийской стороны, названной по имени собора, – Большая Санкт-Петербургская. За несколько километров до Детинца она своей осью выходит на Софийский собор, который является безусловной доминантой ее перспективы. При этом на логотипе храм визуально выглядит меньше птицы, доминирующей по размеру, и на его купольном кресте нет голубя, отличающего собор от других храмов не только Новгорода, но России и мира. Для создателей логотипа не собор, а именно голубь, который сидит на верхушке Софийского собора, – главный символ города, так как «город будет процветать, покуда голубь сидит на своём месте»1 (рис. 3).

Рисунок 3 – Голубь на кресте Софийского собора
Figure 3 – Dove on the Cross of St. Sophia Cathedral
Еще в 2008 г., за год до празднования 1150-летия основания (первого упоминания в летописи) Новгорода и проведения Первых Ганзейских дней нового времени в Великом Новгороде проводился конкурс детских рисунков символа города. На большинстве из 70 представленных на конкурс рисунков дети изобразили голубя, и он стал символом города на праздновании юбилея2.
В 2023 г. в Великом Новгороде прошло общеобластное голосование за символ региона, организованное в форме конкурса под эгидой Общественной палаты Новгородской области. Центр развития городской среды региона по итогам многочисленных обсуждений в районах области представил на голосование семь вариантов визуализации символа, из которых на четырех присутствует софийский голубь или есть отсылка к нему3.
Выбирая или предлагая голубя, и дети в 2008 г., и дизайнеры в 2017, 2018, 2023 гг. опирались на широко распространенное предание о том, что голубь на кресте собора – птица, окаменевшая от ужаса, увиденного при расправе Ивана IV над новгородцами, и когда она улетит, тут городу и придет конец4.
Время возникновения этой легенды неизвестно и, по устному указанию исследователя Д.Б. Терешкиной, ранее XIX в. в письменных источниках не упоминается. История этого предания нуждается в тщательном изучении. Можно предположить, что оно родилось лишь в период формирования негативного отношения к Ивану Грозному, характерного для либеральных умонастроений русской интеллигенции XVIII–XIX вв. Однако в данном предании можно выделить два сюжета. Вне упоминания Ивана Грозного птица объявляется символом благодатного покровительства городу, тождественной самому городу, а ее утрата, исчезновение пророчески предсказывает его конец. Этот сюжет схож с преданием о росписи Софийского собора, впервые зафиксированном в Новгородской третьей летописи, возникшей в XVII в. Когда мастера изобразили в центральном куполе, на котором сегодня стоит крест с птицей, Вседержителя, то написали Христа с благословляющей дланью, но наутро обнаружили вместо благословляющей руки кулак. И после троекратной безуспешной попытки переписать фреску было явление, в котором Господь возбранил переписывать кулак, так как в нем Он держит город, и если раскроет его, то город падет: «Писари, писари, о писари! Не пишите Мя благословляющей рукою, напишите Мя сжатою рукою, Аз бо в сей руце моей сей великий Новъград держу; а когда сия рука моя распространится, тогда будет граду сему скончание» (Брюсова, 1966: 57).
Два предания, связанные с центральным куполом Софийского собора, сбылись одновременно в 1941 г., когда от прямого попадания снаряда был сбит крест и разрушен купол: фреска в куполе уничтожена, «кулак разжат», а крест похищен оккупантами. Город был практически полностью разрушен, в живых из горожан остались единицы. Крест с голубем союзники Гитлера увезли в Испанию, где он более шестидесяти лет находился в часовне одного из католических монастырей. Образ этой птицы на кресте не смущал представителей западного христианства (Царевская, 2019: 3).
Очевидно, что для христиан Испании и католической традиции в целом голубь не был чуждым образом. В Новом Завете эта птица является типичным символом Святого Духа. Текст Священного Писания становится историческим основанием изображения Святого Духа через образ голубя: «в виде Духа Божия сходяща яко голубя» (Мф 3:16), «и Духа яко голубя, сходяща нань» (Мк 1: 10), «И сниде Дух Святый телесным образом яко голубь, нань» (Лк 3: 22), «Духа сходяща яко голубя с небесе» (Ин 1: 32). На иконе Сошествия Святого Духа в Пятидесятницу помещается также голубь, хотя в Священном Писании о нем не упоминается: «И явишася им разделени языцы яко огненни» (Деян 2: 3).
Однако форма голубя на кресте главного купола Софийского собора – сидящая птица, отличается от иконографического образа схождения Святого Духа – пикирующей птицы, и тем не менее она хорошо знакома и близка христианам всех традиций. Использование этого образа, очевидно, восходит ко времени неразделенной Церкви. В Житии Василия Великого, почитание которого распространяется на Руси с момента принятия христианства, рассказывается, что в ответ на его горячую молитву-просьбу о визуальном знаке действенности его крещения он увидел голубя, нисходящего на воду из молнии, всколыхнувшего воду и улетевшего1. В память об увиденном уверении, став архиереем, святой заказал мастеру образ голубя из чистого золота и разместил его над престолом в храме. Когда во время литургии он возносил святые Дары, то подвешенный голубь трепетал три раза, свидетельствуя о сошествии Святого Духа2. Но кроме символического значения этот голубь имел и прикладное назначение: «Panem divisisset in tres partes. Tertiam positam super columbam auream, desuper sacrum altare suspendit…»3, которое возводят именно к литургической практике святителя Василия, отразившейся в его житии4. На Руси эта практика использования дарохранительницы в виде голубя также присутствовала5.
И хотя время возникновения жития святителя Василия, упоминающего такую литургическую практику, сегодня является предметом дискуссий, факт существования в христианской древности дарохранительниц в виде голубя неоспорим по крайней мере с VI в. В «Метрополитен»-музее представлена серебряная дарохранительница 500–650 гг. сирийского происхождения6 (рис. 4).

Рисунок 4 – Серебряный голубь-дарохранительница из коллекции музея «Метрополитен». Сирия VI в.
Figure 4 – A Silver Gift Dove from the Collection of the Metropolitan Museum of Art. Syria VI c.
Аналогичные по форме, размерам дарохранительницы в форме сидящего голубя (рис. 5) были если не всеобще распространены, то точно широко использовались, о чем свидетельствуют коллекции многих музеев мира, а также их сохранение в некоторых монастырях и храмах Европы вплоть до наших дней. Во французском Лиможе в XII–XIII вв. производилось огромное количество таких дарохранительниц1.

Рисунок 5 – Дарохранительница в виде голубя над городом. Лимож, Франция, XIII в.
Государственный музей Амстердама
Figure 5 – Dove-Shaped Gift Holder Over the City. Limoges, France, XIII c.
State Museum of Amsterdam
Эти дарохранительницы разных веков и из разных стран очень похожи на голубя на кресте Софийского собора в Великом Новгороде (рис. 6). Тем не менее такая дарохранительница если и была в Новгороде, то, вероятно, не с момента освящения Софийского собора. Новгородский боярин Добрыня Ядрейкович совершил паломничество в Царьград в 1200 г. и в «Паломнике» – дневнике своего путешествия – так описывал Софию Константинопольскую: «Во олтари же великом над святою трапезою великою, на среде ея, под катапезмою <…> голубь злат»1. По возвращении на родину Добрыня стал новгородским архиепископом Антонием, приложив немало усилий для благоустройства и украшения Софии Новгородской, очевидно, по образцу увиденного в паломничестве, что могло привести к устройству дарохранительницы над алтарем. О. Бондарь описывает дарохранительницу Софийского собора как сребропозлащённого голубя2.

Рисунок 6 – Голубь из коллекции Новгородского музея-заповедника – прототип современного голубя на кресте Софийского собора
Figure 6 – A Dove from the Collection of the Novgorod Museum-Reserve – Prototype of the Modern Dove on the Cross of St. Sophia Cathedral
После Тридентского собора (1545–1563) в католичестве постепенно появляются дарохранительницы в виде пирамид и скинии, ставшие обязательными после 1863 г. Голубь, употреблявшийся ранее как дарохранительница, в большинстве случаев в Европе становится реликварием, статично закрепляемым в алтарях и сокровищницах, стационарным, неподвешиваемым. Если новый вид дарохранительниц появляется в Европе в середине XVI в., то это могло оказать влияние и на Великий Новгород, имевший тесные связи с западными соседями, и тогда голубь из алтаря мог переместиться на крест на куполе. Время этого перемещения может объяснить появление в легенде о голубе фигуры Ивана Грозного. С другой стороны, предание о фреске Пантократора содержится в Новгородской третьей летописи, где также под 1471 г. есть рассказ о знамениях, которые предшествовали покорению Новгорода Иваном III: «Разразилась сильная буря и сломала крест на св. Софии»3.
Великий Новгород как город и как республика на протяжении многих веков в источниках назывался Домом Святой Софии. Иконописное изображение Софии Премудрости Божией предполагает размещение в верхней части иконы Этимасии, устойчивой составляющей которой является образ голубя на книге, зачастую с крестчатым нимбом. Однако в Софийском соборе на храмовой иконе XVI–XVII вв. на престоле нет голубя. Можно рассмотреть его отсутствие как указание на то, что отсутствующий на иконе голубь переместился на купол храма, показывая, что сам собор и есть Престол Уготованный, а город – вместилище Божие – Дом Святой Софии.
Дарохранительница в виде голубя многие века в христианской литургической практике была символическим выражением веры в схождение на Дары и на собрание верующих Святого Духа, делающего всех единым Телом Христовым – Церковью. Одновременно дарохранительница в виде голубя была изображением явленного присутствия Тела Христова – Святых Даров в храме1. Так, Новгород мог восприниматься вместилищем Духа Святого, Домом Господним, престолом которого являлся Софийский Собор, а визуализацией – дарохранительницы в виде голубя, изображаемого над градом (см. рис. 5).
Дарохранительница в виде голубя, подвешиваемая над престолом, как можно понять из текста «Паломника» Антония Новгородца и дошедшей до нас практике некоторых западных христианских деноминаций, сверху покрывалась завесой, «тайной». Такой ее вид семиотически отсылает к часовне Гроба Господня в Иерусалиме2. При этом известно, что архиепископ Антоний устроил в Софийском соборе «меру Гроба Господня», что, возможно, было репрезентацией этой часовни, прообраз которой находится в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. При таком прочтении сам Софийский собор с голубем – дарохранительницей – становится кувуклией, а иерусалимским храмом Воскресения Христова выступает Новгородская земля – Великий Новгород, престол которого – Софийский собор. Сам Новгород становится Градом Божиим, принимая образ Иерусалима и Константинополя. Формируемый так образ мог быть распространенным способом трансфера сакрального пространства. Визуальным выражением этого трансфера, вероятно, также могут быть дошедшие до нас старинные дарохранительницы в виде голубя с тарелкой-подножием в виде града, тождественного изображению града на архиерейских орлецах, как, например, дарохранительница из Государственного музея Амстердама (см. рис. 5), украденная Э. Филлипсом Оппенгеймом из Зальцбургского собора3 с квадратным городом, или дарохранительница из Национальной галереи искусств в Вашингтоне с круглым городом4. Обе они изготовлены в первой трети XIII в. во Франции, очевидно, в Лиможе.
Для современного Великого Новгорода и новгородцев городской доминантой является Детинец, новгородский Кремль. В свою очередь его доминантой, сердцем является именно Софийский собор, а не памятник Тысячелетию России, как можно было бы предположить. Купола храма видны из разных частей города, они возвышаются над крепостной стеной Детинца. Особенно заметен центральный, позолоченный купол, который венчает крест с голубем наверху. Об этом туристам всегда рассказывают экскурсоводы. Легенду о его появлении знает большинство жителей города. За Святую Софию и от имени Святой Софии с момента ее возведения воевали новгородцы, заключали договоры, утверждали законы. С именем Софии Новгородцы осваивали северные земли, дошли до Урала, Сибири – вплоть до Индигирки. Софийский собор был визуальным и семиотическим символом города на протяжении многих веков для новгородцев, чья идентичность была исключительно христианской, и голубь служил знаком символического и мистического присутствия Святого Духа в этом храме и в самом городе. Возможно, по этой причине голубь изображен на флаге русскоустьин-цев, потомков древних новгородцев, дошедших до восточных рубежей России к XVII в., времени фиксации в летописи преданий о голубе, сохранивших свою христианскую идентичность и память о Новгороде. Важность и жизненность восприятия Софийского собора в качестве выражения христо-центричности устройства земного мира для средневековых новгородцев выразилась также в строительстве софийских соборов в Вологде в конце XVI в. и Тобольске в начале XVII в.
В хранилище Новгородского музея-заповедника находится металлический голубь, атрибутированный XVII в., по образцу которого в 2006 г. сделали птицу для современного креста на куполе Софийского собора в Новгороде.
Голубь вошел неотъемлемой составляющей в традиционную культуру русского народа. Распространенность щепного голубка на Русском Севере стала всеобщей как минимум к XIX в. Это часть самоидентификации поморов – выходцев из Новгорода, относивших себя к Новгородской земле, что выразилось в одном из современных названий этой птицы – «поморский голубок». Однако такую птицу крестьяне размещали в своих домах и гораздо южнее, например, на территории современной Беларуси, в Липецкой области, на Украине, в Тверской области, у марийцев и т. д. Голубей в многовековой русской культуре можно видеть в устойчивых сюжетах вышивки набожников и свадебных полотенец, женских нарядов, в храмовых росписях, книжных миниатюрах, белокаменной и деревянной резьбе.
В современном Новгороде репрезентация софийского голубя безусловно читается в фирменном блоке «Руси Новгородской» и его трансляциях через брендирование календарных событий, мероприятий, городского транспорта, нового оформления городских улиц, в котором образ голубя является узнаваемым, самостоятельным, ярким. Световые фигуры птицы украсили Большую Санкт-Петербургскую улицу по обе стороны проезда, в перспективе которого виднеется сам Софийский собор, а также другие улицы, радиально ведущие к Детинцу. Мост Александра Невского, соединивший в 1953 г. Торговую и Софийскую части Новгороде, также по обе стороны украшен иллюминацией в виде узнаваемых голубей (рис. 7).

Рисунок 7 – Голуби регулярной иллюминации моста Александра Невского в Великом Новгороде. Фото автора, 2023 г.
Figure 7 – Doves of Regular Illumination of Alexander Nevsky Bridge in Veliky Novgorod.
Photo by the Author, 2023.
На недавно созданном продолжении Софийской Набережной у Театра драмы установлена деревянная инсталляция «Русь Новгородская» с логотипом, доминантой композиции которого стал голубь. Афиши, буклеты, оформление площадок губернаторского проекта «Новгородское лето», реализуемого уже третий год, иллюстрированы специально разработанным для проекта логотипом, ключевым элементом которого также является образ голубя.
Для новгородцев символическое значение этой птицы сегодня не может не связываться с общей историей города и его преданиями, не может не читаться визуальным парафразом голубя на кресте главного купола Софийского храма, а также служит напоминанием того, что голубь присутствует на историческом кресте, вернувшемся из Испании в 2004 г. и стоящем сегодня как святыня на солее внутри Софийского собора.
Для живущего в Великом Новгороде или посещающего его как турист христианина, чье восприятие во многом обусловлено не только исторической, этнической, но и конфессиональной идентичностью, формируемой преданием, голубь как символ и его распространение по всему городскому пространству говорят о том, что этот город является вместилищем Духа Святого, то есть христианским по своей идентичности, а сам Софийский собор – престолом, над которым парит Святой Дух, Кувуклией – часовней Гроба Господня в иерусалимском храме Воскресения. Именно голубь, даже входящий в городское пространство сегодня через светскую символику, служит для христиан воспроизведением паттернов, способствующих узнаванию своего сакрального пространства, концептом своего сакрального локуса.
Когда именно появился голубь на кресте в Великом Новгороде, предстоит уточнить в результате исследования двух голубей, сохранившихся в новгородском Кремле. Этому может способствовать изучение их с художественной и материаловедческой сторон, сопоставление размеров с дарохранительницами, хранящимися музеях России и других стран, соотнесение с голубем на кресте Дмитриевского собора во Владимире.
В общемировом секулярном контексте сегодня фигура голубя является безусловным символом мира. В конце 2008 г. в честь 60-летия принятия на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН Всеобщей декларации прав человека немецким художником-скульптором Р. Хиллин-гером было изготовлено 30 статуэток в виде покрытой позолотой пластиковой фигурки голубя, держащей в клюве пальмовую ветвь. Вид их до смешения сходен с внешними образами голубей-дарохранительниц. Согласно проекту ассоциации «Мэры мира», в 2009 г. такие голуби должны были «полететь» по всей планете: от человека к человеку, от организации к организации. Один из них оказался в Туле и оттуда был передан белорусскому Могилёву.
В современной светской культуре голубь оказался устойчиво связан с оливковой ветвью, как в первые века христианства. История с возвращением из Испании новгородского голубя в 2004 г. включила в себя и это значение. В знак благодарности Испании за возвращение в Великий Новгорода похищенной святыни новгородский мастер сделал копию возвращенного креста с голубем, но в клюв птицы добавил небольшую веточку в знак мира, примирения.
Еще одним всеобщим значением голубя вне религиозной традиции сегодня является его восприятие по всему миру как знака любви, верности в браке, о чем свидетельствует оформление разных атрибутов свадебных церемоний изображением двух голубей. Также пару живых птиц молодожёны часто выпускают во время церемонии бракосочетания. Эта тема сегодня отсутствует в маркетинговой практике брендирования Новгорода, но ее развитие могло бы идти в направлении позиционирования города как сакрального места для заключения брака, венчания в уникальном соборе, на куполе и под куполом которого находятся голуби.
Другими направлениями брендирования могли бы стать разработка и производство среди широких слоев горожан и туристов смыслов, закрепленных за голубем в христианской традиции. Изображение этих птиц часто встречается на этнографических образцах народного текстиля; голубь размещается художниками в храмах над царскими вратами; иногда его образ используют для изготовления лампад; щепная птица, широко известная по Архангельской области, встречалась по всему Северо-Западу и являла собой образ Святого Духа; ее фигурка, подвешиваемая в переднем углу дома, является одной из доминант общерусского культурного кода, сформировавшегося под влиянием православия, им семиотизированного.
Русский фольклор дает примеры многократного упоминания голубя в устном народном творчестве. За каждым из них стоят смыслы, знакомые христианам из прошлого, когда святоотеческие тексты были широко распространены в народе. В результате всестороннего культурологического и теологического изучения они могут послужить производству сувенирной продукции, интегрированной с продвижением территории Новгородчины, основой для которого стал образ уникального и всеми узнаваемого голубя на кресте главного храма региона.