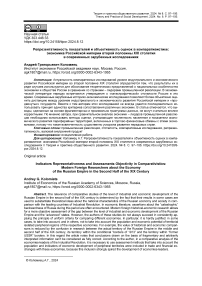Репрезентативность показателей и объективность оценок в компаративистике: экономика Российской империи второй половины XIX столетия в современных зарубежных исследованиях
Автор: Коломиец А.Г.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
Актуальность компаративных исследований уровня индустриального и экономического развития Российской империи во второй половине XIX столетия определяется тем, что результаты их в ряде случаев используются для обоснования теоретических представлений о национальных особенностях экономики и общества России в сравнении со странами - лидерами промышленной революции. В экономической литературе нередко встречаются утверждения о «катастрофической» отсталости России в это время. Современные зарубежные историко-экономические исследования позволяют более объективно оценить дистанцию между уровнем индустриального и экономического развития Российской империи и «продвинутых» государств. Вместе с тем авторам этих исследований не всегда удается последовательно использовать принцип единства критериев сопоставления различных экономик. В статье отмечается, что выводы, сделанные на основе фрагментарных и произвольно трактуемых данных, не могут считаться вполне корректными. По мнению автора, при сравнительном анализе экономик - лидеров промышленной революции необходимо использовать методы оценки, учитывающие численность населения и показатели экономического развития периферийных территорий, включенных в торгово-финансовые обмены с этими экономиками, потому что такая вовлеченность существенно ускорила развитие передовых стран.
Промышленная революция, отсталость, компаративные исследования, репрезентативность, валовой внутренний продукт
Короткий адрес: https://sciup.org/149146403
IDR: 149146403 | УДК: 303.446:33 | DOI: 10.24158/tipor.2024.8.12
Текст научной статьи Репрезентативность показателей и объективность оценок в компаративистике: экономика Российской империи второй половины XIX столетия в современных зарубежных исследованиях
Институт экономики Российской академии наук, Москва, Россия, ,
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, ,
Введение . Вопрос об уровне индустриального и экономического развития Российской империи в середине и второй половине XIX столетия продолжает оставаться одним из полемичных. Наиболее цитируемым источником утверждений о «бесконечной», «катастрофической» экономической отсталости России от лидеров промышленной революции, который пользуется достаточной популярностью в современной зарубежной экономической литературе, являются статьи А. Гершенкрона. Эти работы были опубликованы в период 50–60-х гг. прошлого века. Важнейшие из них были объединены в сборнике «Экономическая отсталость в исторической перспективе», вышедшем в свет в 1962 г. (Gerschenkron, 1962). Русский перевод его появился только в 2015 г. (Гершенкрон, 2015).
В данной статье прослеживаются источники представлений А. Гершенкрона об экономической отсталости России, а также рассматриваются оценки современных зарубежных исследователей индустриального и экономического развития Российской империи в сопоставлении со странами, наиболее продвинувшимися во второй половине XIX столетия по пути промышленной революции.
Методологические замечания . Важнейшей проблемой компаративистики является корректное определение объектов сравнительного анализа и использование единых критериев при его проведении, чтобы сопоставление было в максимально возможной степени всесторонним и полным. Решение данной проблемы особенно настоятельно, когда объектами исследования являются экономики стран Европы, находившиеся на этапах формирования предпосылок для промышленной революции и начала ее реализации.
Прежде всего, необходимо учитывать неполноту и несовершенство методов сбора статистических данных о населении и его хозяйственной деятельности. Так, регулярные переписи граждан начали проводится в странах Европы только в разные годы XIX столетия. В России с 1725 г. учету в ходе ревизий подлежало только число мужских «душ», а всеобщая перепись была проведена в 1897 г.
Не менее существенно и то, что в период, когда протекали начальные этапы промышленной революции, национальные экономики, как правило, только формировались. Соответствующие политические и экономические процессы не протекали синхронно. Формирование национальных экономик как целого, которое в социально-экономическом и территориальном аспектах включает центральные и периферические элементы, происходило в соответствие с логикой развития экономических отношений. Причем соответствующие процессы в периферийных частях могли иметь первостепенное значение для развития центра и всей экономики в целом. Государственное строительство подчинялось прежде всего логике политических решений, а часто, учитывая, что основой для него во многих случаях служили средневековые политические образования, – логике интересов феодальных кланов и династий. Территории национальных государств в этот период во многих случаях не имели экономического единства. Напротив, политически обособленные образования часто были связаны более тесными экономическими связями, чем входившие в состав тех или иных государств.
Общая методика компаративных историко-статистических оценок динамики мирового промышленного и экономического развития, проведенных П. Байрохом (Bairoch, 1976), А. Мэдисоном (Maddison, 2001, 2003), С. Бродберри и А. Клейном (Broadberry, Klein, 2011) и другими исследователями, универсальна и основана на использовании агрегированных показателей развития промышленности, сельского хозяйства, национального дохода, валового внутреннего продукта, приведенных к единой стоимостной размерности («международные доллары США 1990 г.» – «1990 international dollars»). Такой метод позволяет выстраивать долгосрочные динамические ряды, характеризующие глобальные и региональные тренды.
Однако универсальность данной методики и широкие возможности ее адаптации к мощностям современных систем обработки больших массивов данных, характеризующих различные аспекты экономического развития, не исключают уязвимостей, возникающих при ее применении к сравнениям конкретных экономик в определенные исторические периоды.
В сравнительных исследованиях национальных экономик времени промышленной революции необходимо учитывать существование различий между территорией государств (или регионов) и территорий, которые имели существенное влияние на формирование экономик и уровня экономического развития национальных экономик (или экономик регионов), а также раз- личий реального вклада центральных и периферических территорий в совокупный валовый внутренний продукт (ВВП) нескольких экономик. «Чтобы написать экономическую историю Европы, охватывающую весь континент, необходимо работать с изменением национальных границ», – с полным основанием констатируют С. Бродберри и А. Клейн (Broadberry, Klein, 2011).
Недооценка указанных различий ведет к низкой репрезентативности оценок экономического роста и развития. В особенности учет указанных различий необходим при сравнении экономик многонациональных и зачастую территориально разобщенных государств, таких как Австро-Венгерская, Османская, Российская, Британская, Французская империи. Территориальное единство не всегда означало наличие экономической общности, и наоборот. В условиях относительно слабого развития сухопутных путей сообщения значение морской торговли как фактора соединения центра и периферии различных стран в экономически единое целое могло быть первостепенным.
Исходный пункт концепции «бесконечной» отсталости России: оценка изменений численности населения в эпоху Петра Великого . Для установления корректности утверждений о бесконечной отсталости России в XVIII – середине XIX вв. значение имеет вопрос о динамике численности населения России в этот период. Он важен для оценки и положений А. Гершенкрона, и, как будет показано ниже, положений современных компаративных исследований. Дело в том, что в своих рассуждениях об экономике России А. Гершенкрон опирался на выводы, содержащиеся в работе русского историка и политического деятеля П.Н. Милюкова, посвященной исследованию государственного хозяйства России в эпоху Петра Великого (Милюков, 1905). Гершенкрон оценивал труд последнего как «классический» (Гершенкрон, 2015: 407). Завершает его характерный вывод: «Утроение податных тягостей ... и одновременная убыль населения по крайней мере на 20 % – это такие факты, которые сами по себе доказывают выставленное положение красноречивее всяких деталей. Ценой разорения страны Россия возведена была в ранг европейской державы» (Милюков, 2015: 546). Данный вывод А. Гершенкрон фактически воспроизводит, утверждая, что ко времени окончания царствования Петра I «статус России как великой мировой державы прочно укрепился, но это было достигнуто ценой таких невероятных усилий, которые привели к обнищанию страны, что не могло остаться незамеченным современниками» (Гершенкрон, 2015: 423).
Что касается мнений современников о царствовании Петра Великого, то они различны. Вывод П.Н. Милюкова о «разорении страны» и сокращении ее населения основан на данных подворных переписей, которые действительно показали существенную убыль числа крестьянских и посадских дворов в России за годы правления Петра. В среднем по стране она составила, по оценкам П.Н. Милюкова, «почти 20 %» (Милюков, 1905: 201–217). Однако «камнем преткновения» для его выводов, которые были оспорены еще в начале прошлого века, стало отождествление им динамики изменения количества дворов и численности населения. В реальности крестьянство, переведенное во второй половине XVII столетия на подворное обложение, отреагировало на усиление тягот в правление Петра сокращением «выдела» новых семей. Это позволяло уменьшать объем податей и повинностей, приходившихся на одного «тяглеца». Отмеченные обстоятельства не были секретом для правительства: непригодность подворного обложения была одним из главных мотивов введения в конце правления Петра подушной подати. Ни до, ни после этого очевидных оснований для столь резких колебаний численности населения, как убыль его 1/ 5 части, не было. По более поздним оценкам, население России (исключая Левобережную Украину и Прибалтику) за время правления Петра увеличилось на 40 % (Водарский, 1977: 192). Авторы «Кембриджской экономической истории» полагают, что среднегодовой рост населения России в 1700–1750 гг. был значительно выше среднеевропейского показателя (Alter et al., 2010: 44). Все это не вяжется с утверждениями П.Н. Милюкова и А. Гершенкрона. Современные оценки позволяют существенно смягчить и катастрофическую картину, нарисованную первым из них в отношении налогового бремени населения. Порча монеты, которую правительство Петра широко использовало для повышения доходов казны, не только повлияла на двукратный рост цен, но и существенно снизила податные поступления. Реальный объем их в расчете на среднестатистического жителя за четыре десятилетия правления Петра Великого вырос примерно в полтора раза, а с учетом существенного расширения круга плательщиков в это время увеличение тягот в среднем на одного плательщика было еще меньшим (Коломиец, 2012: 110, 123–124).
Другим «камнем преткновения» для будущего лидера партии кадетов стал вывод, что ценой «разорения Россия была возведена в ранг европейской державы» или, как позднее писал А. Гершенкрон, «великой мировой державы». Однако новая европейская история не знает примеров, когда разоренная страна была бы способна поддерживать статус первостепенной державы, в том числе опираясь на силу оружия, поскольку главным условием для этого является экономическая мощь. Но именно способность поддерживать и укреплять положение великой державы демонстрировала Российская империя и в первые годы после Петра, и на протяжении всего XVIII в. Напротив, Крымская война как раз показала, что замедление экономического роста сразу же влечет за собой геополитические последствия.
Вопреки оценкам П.Н. Милюкова и А. Гершенкрона, который утверждал, что отсталость отличала российскую экономику со времен Петра I (Гершенкрон, 2015: 74, 168), после периода правления Петра экономический застой в России не наблюдался. Развитие получила и крепостная промышленность. К 1740 г. Россия по выплавке чугуна обогнала Англию и в середине столетия сохраняла мировое лидерство (Сметанин, Конотопов, 2000: 228–229). М.И. Туган-Барановский, книга которого «Русская фабрика в прошлом и настоящем» впервые увидела свет в 1898 г., отмечал, что в конце XVIII в. в России выплавлялось около 8 млн пудов чугуна, примерно столько же, сколько в Англии (Туган-Барановский, 1926: 67). Подчеркнем, что А. Гершенкрон, который оценивал М.И. Туган-Барановского как серьезного ученого (Гершенкрон, 2015: 321), предпочел данный факт не заметить.
Замедление развития или «безнадежная отсталость»: современная компаративистика об экономике и промышленности России в 60–80-е гг. XIX в. Факты, свидетельствующие об общем замедлении экономического развития России во второй четверти XIX столетия, многократно констатировались в литературе, как и основная причина этого замедления – сохранение крепостного права, что имело результатом аграрное перенаселение в центральных областях страны. В это же время наблюдался рост ряда отраслей промышленности, среди которых преобладали суконная, шелковая, хлопчатобумажная, полотняная. С 1856 по 1864 гг. объем промышленной продукции только в Московской и Санкт-Петербургской губерниях вырос с 76,7 до 125,9 млн руб., то есть более чем в 1,6 раза (Ульянова, 2023: 12, 16). В 1851 г. было открыто движение по крупнейшей железнодорожной магистрали Европы, соединившей Москву и Санкт-Петербург (Колпаков, 2021), и продолжалось строительство линии, соединившей Санкт-Петербург и Варшаву1. Очевидно, что масштабы созданной к середине XIX в. промышленности России не соответствовали потребностям и объективным возможностям превращения отечественной экономики в аграрно-индустриальную. Но не следует забывать, что на тот момент она сложилась только на территории метрополии Британской империи – в Великобритании.
В связи с вышеизложенным правомерно поставить вопрос: соответствует ли своего рода «иерархия отсталости» европейских стран в середине XIX столетия, выстроенная А. Гершенкро-ном преимущественно на основе интуитивных представлений2, современным данным, характеризующим процесс развития соответствующих экономик? Оценки промышленности ведущих экономик мира в XVIII–XIX столетиях, сделанные П. Байрохом (Bairoch, 1976), а также аналогичные сравнительно недавние оценки С. Бродберри и А. Клейна3 заставляют сомневаться в обоснованности данных утверждений.
Прежде всего рассмотрим удельный вес различных экономик в общемировом производстве промышленной продукции в период 1830–1880 гг. на основе мнения П. Байроха (табл. 1).
Таблица 1 – Доля ведущих экономик мира в общемировом производстве промышленной продукции в 1830–1880 гг. средние годовые значения за трехлетний период (в границах на соответствующие даты), % 4
Table 1 – Share of the World’s Leading Economies in Global Industrial Output in 1830–1880 Annual Averages for the Three-Year Period (Within the Boundaries of the Respective Dates), %
|
1830 |
1860 |
1880 |
|||
|
Китай |
29,8 |
Великобритания |
19,9 |
Великобритания |
22,9 |
|
Индия |
17,6 |
Китай |
19,7 |
США |
14,7 |
|
Великобритания |
9,5 |
Индия |
8,6 |
Китай |
12,9 |
|
Франция |
5,2 |
Франция |
7,9 |
Германия |
8,5 |
|
Россия |
5,6 |
США |
7,2 |
Франция |
7,8 |
|
Германия |
3,5 |
Россия |
7,0 |
Россия |
7,6 |
|
Австро-Венгрия |
3,2 |
Германия |
4,9 |
Австро-Венгрия |
4,4 |
|
США |
2,4 |
Австро-Венгрия |
4,2 |
Индия |
2,8 |
1 Постройка и эксплуатация Николаевской железной дороги (1842–1851–1901 гг.): краткий исторический очерк. СПб., 1901. 64 с.
2 «На самом деле, если проанализировать экономическую ситуацию в Европе в XIX в., сосредоточив внимание, скажем, на середине столетия, то вряд ли кто-то сможет оспорить, что Германия была более отсталой в экономическом отношении страной, чем Франция; что Австрия была более отсталой, чем Германия, а Италия – еще более отсталой, чем Австрия; что Россия была намного более отсталой, чем все упомянутые выше страны. Точно так же вряд ли кто-то станет отрицать, что в этот период самой передовой страной была Англия. Независимо от того, учитываем ли мы такие показатели, как объемы производимой продукции, уровень достигнутого технологического прогресса, умения и навыки населения, уровень грамотности, стандарты честности, “временной горизонт” предпринимателей или другие аналогичные факторы, ответы, которые мы надеемся получить, будут приблизительно одинаковыми» (Гершенкрон, 2015: 110).
3 С. Бродберри, А. Клейн и другие исследователи оценки П. Байроха в целом под сомнение не ставят (Broadberry, Klein, 2011: 2, 17).
4 Таблица приводится по работе П. Байроха (Bairoch, 1976: 296).
Приведенные оценки свидетельствуют: во-первых, о радикальном перераспределении богатства между различными странами и регионами, происходившем в связи с промышленной революцией; во-вторых, о том, что России, опираясь на достигнутый к середине XIX в. уровень развития промышленности, удалось во второй половине этого столетия выйти на траекторию экономического роста, которая позволяла поддерживать ее геополитическую конкурентоспособность, то есть решить задачу, которая оставалась актуальной для крупнейших экономик Азии.
В начале периода Китай и Индия еще сохраняли лидерство в мире по показателю объема производства промышленной продукции. С 1830 по 1860 гг. быстро увеличилась доля в нем США и Германии. Тем не менее в соответствующей «мировой табели о рангах» их место оставалось достаточно скромным. В 1860 г. Германия, как и ее будущий противник (а затем союзник) Австро-Венгрия, сильно отставала от России, которая в 1830–1860 гг. увеличила на 1/ 4 часть свою долю в мировом промышленном производстве. По этому показателю в 1860 г. США опережали ее на 0,2 %. В последующие два десятилетия – с 1860 по 1880 гг. – доля России в мировом промышленном производстве выросла до 7,6 % и вплотную приблизилась к соответствующему показателю Франции.
Со сказанным корреспондируют оценки П. Байрохом «уровня индустриализации» по общему объему выпуска продукции промышленности. «Уровень» России по отношению к Англии (Англия в 1900 г. – 100) оценивался им в 1860 г. как 16. Российская империя вместе с США (также 16) по этому показателю занимала 5–6 место в мире. Германия находилась на 7 месте (11). Лидерство принадлежало Англии (45), второе место – Китаю (44), третье – Индии (19), четвертое – Франции (18) (Bairoch, 1976: 284).
Как показывают оценки П. Байроха, по объему производства промышленной продукции Великобритания в 1830–1860 гг. выдвинулась с третьего на первое место в мире, которое продолжала сохранять в 1880 г. В это же время Китай и Индия быстро утрачивали позиции мировых лидеров по показателю объема промышленного производства. В 1880 г. по сравнению с 1830 г. доля Индии упала более чем в 7 раз, доля Китая – более чем в 2 раза. Наиболее существенной причиной этого процесса было превращение этих стран в колонию и полуколонию, прежде всего, Великобритании. Военная сила и вооруженная борьба имели решающее значение не только для развития Британской империи и ее колоний и полуколоний, но и для «соревнования» между лидерами промышленного переворота середины и второй половины XIX столетия. Германия, одержав победы над Австро-Венгрией и Францией и присоединив промышленный потенциал Эльзаса и Лотарингии, в 1,7 раза увеличила свою долю в мировом производстве до 8,5 %. В то же время доля Франции даже немного сократилась, а Австро-Венгрии – увеличилась на 0,2 %, и разрыв между ней и Россией по этому показателю увеличился в пользу последней (см. табл. 1). Отмеченные изменения свидетельствуют о существенном влиянии пересмотра границ, то есть включения или исключения территорий с разным уровнем промышленного развития и численностью населения, а также потенциалом положительного и отрицательного воздействия на рост конкретной экономики и на оценки промышленного развития ведущих мировых держав в этот период.
Представляется, что влияние территориальных изменений существенно снижает информативность показателей в расчете на душу населения, которые часто используются для оценки и сравнения уровней промышленного и экономического развития в этот период. Особенно это касается Российской империи, границы которой во второй половине XIX столетия значительно расширились в основном за счет включения в состав страны территорий, слабо связанных с центрами экономического роста России. Так, П. Байрох оценивал «уровень индустриализации на душу населения» («per capita level of indusrialisation») как объем промышленной продукции на душу населения по отношению к уровню Соединенного Королевства в границах 1913 г. («the per capita volume of industrial production (UK in 1900 – 100; 1913 boundaries»). Эти оценки П. Байроха с некоторыми корректировками и исключением неевропейских стран воспроизведены в «Кембриджской экономической истории» (Bairoch, 1976: 281, 286; Fremdling et al., 2010: 172). Они ставят Россию в 1860 г. на более низкое место – позади Франции, Германии, Голландии, Италии, на уровень Португалии.
Следует учитывать степень условности этих оценок, поскольку численность населения оценивалась «в границах 1913 г.». Они значительно отличались от таковых в 1860 г. Средняя Азия (Туркестан) и немалая часть Кавказа и Закавказья в состав территории России не входили. Как отмечено выше, сходный с методом П. Байроха способ компаративных оценок, опирающийся на методологию А. Мэддисона, был использован С. Бродберри и А. Клейном для определения динамики экономического роста в Европе с 1870 по 2000 гг. Данные С. Бродберри и А. Клейна (табл. 2) так же, как и данные П. Байроха, свидетельствуют, в частности, о существенном влиянии включения или исключения территорий с разным уровнем промышленного развития и численностью населения на оценки экономики ведущих мировых держав в этот период. Так, в 1870– 1890 гг. рост населения Франции составил всего 4,1 %, а ВВП этой страны был ниже, чем в Австро-Венгрии. Германия, напротив, увеличила свое население более, чем на 20 %, а по показателю роста ВВП уступила только США. В 1870–1890 гг. ВВП Франции на душу населения увеличился на 26,7 % – это немногим больше, чем в Австро-Венгрии.
Таблица 2 – Население (млн чел.), ВВП (USD в международных ценах 1990 г.) и ВВП на душу населения ведущих индустриализируемых экономик мира в 1870–1890 гг. в границах стран до 1913 г.1
Table 2 – Population (Million People), GDP (USD in 1990 International Prices) and GDP Per Capita of the World’s Leading Industrializing Economies in 1870–1890 within the Borders of Countries Before 1913
|
Экономика |
Показатель |
1870 |
1890 |
Изменение 1870/1890, в % |
|
Соединенное Королевство |
ВВП |
104,011 |
151,998 |
146,14 |
|
население |
31,26 |
37,49 |
119,93 |
|
|
ВВП на душу населения |
3 328 |
4 055 |
121,84 |
|
|
США |
ВВП |
98,303 |
214,714 |
218,42 |
|
население |
40,06 |
63,3 |
158,01 |
|
|
ВВП на душу населения |
2 454 |
3 392 |
138,22 |
|
|
Российская империя |
ВВП |
95,432 |
114,518 |
120,00 |
|
население |
84,5 |
117,8 |
139,41 |
|
|
ВВП на душу населения |
1097 |
944 |
86,05 |
|
|
Германия |
ВВП |
81,836 |
136,243 |
166,48 |
|
население |
40,81 |
49,24 |
120,66 |
|
|
ВВП на душу населения |
2 006 |
2 767 |
137,94 |
|
|
Франция |
ВВП |
64,39 |
84,907 |
131,86 |
|
население |
36,87 |
38,38 |
104,10 |
|
|
ВВП на душу населения |
1 746 |
2 212 |
126,69 |
|
|
Австро-Венгрия |
ВВП |
53,721 |
74,637 |
138,93 |
|
население |
33,92 |
38,84 |
114,50 |
|
|
ВВП на душу населения |
1 584 |
1 922 |
121,34 |
Ярким примером, характеризующим проблемы, которые возникают при компаративных оценках вследствие влияния изменения границ, является определение показателей экономического развития России «на душу населения» в 1870–1890 гг. В отношении нашей страны С. Брод-берри и А. Клейн принимают «из-за несовершенства способа сбора данных» то же допущение, что и П. Байрох, и включают в свои расчеты данные, которые характеризуют «всю Россию» «в границах до 1913 года». Как отмечено выше, для данного периода «границы 1913 года» могут быть только условными. При этом Бродберри и А. Клейн отмечают, что за период 1860–1913 гг. на долю 50 губерний Европейской России приходилось около трех четвертей населения и сельскохозяйственной продукции всей империи (Broadberry, Klein, 2011: 3). В оценках А. Мэддисона Россия или Российская империя как таковые отсутствуют, а фигурирует «территория бывшего СССР». В 1870 г., согласно исследователю, ВВП «бывшего СССР» составил 83 646 млн долл. США 1990 г., а ВВП на душу населения – 943 долл. США 1990 г. (Maddison, 2003: 262–264), что значительно ниже оценок С. Бродберри и А. Клейна (см. табл. 2). Можно предположить, что это расхождение – в значительной части результат различий между территорией Российской империи в условных «границах 1913 г.» и не в менее условных границах «территории бывшего СССР».
Согласно мнению А. Мэддисона, в 1870 г. население Туркестана (9,1 млн чел.) и Кавказа (4,6 млн чел.) составляло 18 % от жителей Европейской России. Население губерний Царства Польского в этих оценках не упоминается (Maddison, 2003: 232). В состав Российской империи в 1870 г. Туркестан (ханства Средней Азии: Хива, Бухара и др.) ни административно, ни экономически не входил. Только в середине 60-х гг. завершилась Кавказская война, которая продолжалась несколько десятилетий и серьезно препятствовала развитию экономических связей с данными территориями. Зависимость развития промышленности России в середине XIX столетия от экономики Средней Азии, Кавказа и Закавказья, была минимальной уже в силу малой транспортной доступности. Так, российско-среднеазиатская торговля в этот период «носила меновой характер», экспорт готовых изделий имел незначительные объемы , вывоз в Среднюю Азию составлял около 2,5 % от всего в России, из региона же доставлялось ежегодно около 100 тыс. пудов хлопка-сырца (Шкунов, 2011, 2012), в то время как привоз этого товара по европейской границе составлял около 1600 тыс. пудов (Ульянова, 2023: 28).
С другой стороны, из расчетов А. Мэдисона исключено население и ВВП территории Польши, которая в 1913 г. входила в состав Российской империи (Царство Польское) и имела относительно более высокий уровень экономического развития. В частности, одним из центров промышленности Российской империи в середине XIX в. был город Лодзь, находящийся в Польше (Царстве Польском), который быстро развивался, в том числе за счет военных заказов и субсидий, финансируемых из государственного бюджета империи. Согласно оценкам Интендантского ведомства, в 1870 г. продукция пищевой и легкой промышленности Царства Польского составила более 50 млн руб.1, что сопоставимо с показателями развития других промышленных центров России. Заметим, что нет работ, в которых развитие экономики Германии во второй половине XIX столетия оценивалось бы без учета экономик Эльзаса и Лотарингии, хотя по итогам Второй мировой войны эти территории стали частью территории Франции.
Таким образом, Российская империя единственная из стран в оценках экономического развития середины и второй половины XIX столетия, сделанных П. Байрохом, А. Мэддисоном, С. Бродберри и А. Клейном, представлена ВВП и населением центральных и наиболее развитых областей (за исключением Царства Польского), а также территориально обособленных периферийных в экономическом и государственно-правовом отношениях регионов, включая области, не входившие в состав Российской империи. В то время как другие страны Европы представлены в этих оценках только ВВП и населением метрополий (то есть экономических центров) и в существовавших в тот период границах. В результате показатели промышленного и экономического развития России за 1870–1890 гг. в расчете «на условную душу населения» виртуально-статистических аналогов России отличаются от реальных показателей развития страны в ее фактических границах в рассматриваемом периоде в сторону занижения. В этой связи представляется, что при сравнительной оценке уровня промышленного развития разных экономик (путем расчета «уровня индустриализации» на душу населения или аналогичных показателей) едва ли правомерно в одних случаях учитывать население и экономические результаты в территориально обособленных периферийных регионах, а в других – нет.
В результате отмеченных выше условных допущений, в работе С. Бродберри и А. Клейна, опубликованной в 2011 г., оценки динамики «ВВП на душу населения России в границах 1913 г.» за 1870–1890 гг. существенно расходятся с оценкой динамики ВВП за тот же период. Обратившись к соответствующим таблицам указанной работы читатель находит цифры, казалось бы, прямо свидетельствующие об экономической катастрофе в России в период с 1870 по 1890 гг., вследствие которой ВВП на душу населения в России – единственной из всех 19 стран Европы, представленных в данном исследовании, снизился, причем существенно – на 14 %, в то время как, по оценкам тех же С. Бродберри и А. Клейна, общий объем ВВП России за 1870–1890 гг. увеличился на 1/ 5 (см. табл. 2). Ученые объясняют это расхождение быстрым ростом населения, подразумевая, что, как и в случаях Румынии и Болгарии, имел место естественный прирост населения (Broadberry, Klein, 2011: 8).
Однако если оценивать численность населения Европейской России и Сибири в 1820 г. в 45,5 млн чел., а в 1870 г. – в 74,9 млн (что соответствует данным А. Мэддисона), то рост за 50 лет составил 64,6 %, то есть 1,3 % в год. За следующие же 20 лет с 1870 по 1890 гг., по оценкам А. Мэддисона, С. Бродберри и А. Клейна, население России выросло с 84,5 до 117,8 млн чел. (Maddison, 2003: 232, 241; Broadberry, Klein, 2011: 19). Таким образом, рост составил чуть менее 40 %, то есть почти 2,0 % в год. Однако нет данных, которые бы подтвердили, что Европейская Россия (в которой, как отмечено теми же авторами, в 1870–1913 гг. проживало 2/ 3 населения России) в 70–80-е гг. XIX столетия пережила либо экономическую катастрофу (падение ВВП, что противоречит данным табл. 2), либо демографический взрыв (ускорение ежегодного прироста населения с 1,3 до 2,0 %), либо еще более мощный демографический взрыв произошел в Средней Азии и Закавказье. Внимания С. Бродберри и А. Клейна, а также авторов «Кембриджской экономической истории» указанные несоответствия не привлекают.
Причины отмеченных «нестыковок» кроются в некорректности методов оценки территории и населения. Дело в том, что в 1870 г. ВВП Российской империи создавали 74,5 млн чел. – главным образом население Европейской России и Сибири (а не 84,5 млн чел., проживавших на территориях, которые через 120 лет получили условное название «территории в границах бывшего СССР»). А ВВП «на душу населения» Российской империи в 1890 г., когда она территориально приблизилась к «границам до 1913 года», рассчитывается применительно к количеству жителей, составлявшему уже 117,8 млн чел. В этой численности значительно увеличилась доля населения периферийных регионов (Туркестана и Закавказья), в которых показатели ВВП на душу населения, не говоря уже о производстве промышленной продукции, в эти годы были значительно ниже, чем в Европейской части России, и в среднем по империи.
Так, двусмысленность в оценках численности населения и динамики ВВП на душу населения, путаница между реальной территорией Российской империи, ее территорией «в границах 1913 года» (без Царства Польского и Финляндии) и территорией «бывшего СССР» подталкивают к умозрительным выводам о темпах экономического роста в России в 70–80-е гг. XIX столетия, а также иным сомнительным оценкам данного периода.
Центры и периферия индустриализирующихся экономик в системе компаративных оценок . Важнейшим результатом развертывания промышленной революции стало формирование единства экономик стран-лидеров этой революции, в том числе благодаря обеспечению сухопутной и морской транспортной доступности территориально обособленных областей и глубокому вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве периферии национальных экономик.
Одной из характерных особенностей таких экономик является сильная зависимость ее развития от обмена центра и периферийных областей. Отталкиваясь от тезиса И. Валлерстайна, согласно которому европейский заокеанский империализм имел своеобразную особенность и включал постоянные усилия по созданию разделения труда, в котором европейская родина выступала в качестве «ядра», П. Врис определяет такое «ядро» как страну, которая специализируется на производстве товаров с высокой добавленной стоимостью; имеет относительно свободную рабочую силу с относительно высокой заработной платой; высокий уровень сформированности человеческого капитала и сильное государство. Ее экономические элиты осуществляют прямой или косвенный контроль над транснациональными производственными цепочками и передачей ценностей по ним. Существование ядер подразумевает наличие периферий, то есть регионов, которые не обладают этими характеристиками, а, скорее, являются их противоположностями (Vries, 2019).
Отмеченные особенности, по нашему мнению, дают основания использовать применительно к экономикам лидеров промышленной революции во второй половине XIX в. методы оценки, учитывающие как население, так и экономику центров и периферийных территорий, включенных в систему торговых и финансовых взаимосвязей, определяющих развитие национальных экономик. Последнее, в частности, предполагает оценку уровня развития народного хозяйства Великобритании в середине и второй половине XIX столетия с учетом населения и состояния промышленности, интегрированных с экономикой метрополии английских колоний, входивших в состав Британской империи в этот период. Как отмечал Е. Хобсбаум, Великобритания уже в середине XIX в. стала центром «обширной формальной или неформальной “империи”, на которую в значительной степени опиралась еe судьба («its fortunes have so largely rested»). Центр и периферию Британской империи связывала, как и в других «продвинутых» странах Европы, система экономических потоков – торговли, межнациональных платежей, капитальных трансфертов, миграции и т. д. (Hobsbawm, 1968: 4–5, 21–22).
Морской путь в XIX столетии для передвижения и транспортировки товаров на большие расстояния был более быстрым и надежным, нежели сухопутный до начала масштабного строительства железных дорог. Факты, свидетельствующие о высокой экономической зависимости индустриального развития Англии от ее главной колонии – Индии и обратной зависимости, хорошо известны. Британская индустриализация, в первую очередь связанная с развитием текстильной промышленности, без торговли с Индией, возможно, не имела бы столь значительных масштабов, так как не могла бы создать достаточно прибыли для производительных инвестиций (Zhang Li, 2021: 124‒169). С середины XIX в. основная часть продукции британской хлопковой промышленности сбывалась в Индии и на Дальнем Востоке. Эта промышленность полагалась «не на свое конкурентное превосходство, а на монополию колониальных и слаборазвитых рынков, которая существовала благодаря превосходству Британской империи, ее флота и торговой индустрии» (Hobsbawm, 1968: 42, 46). Ввоз английского дешевого текстиля ударил по индийской домашней промышленности и стал одной из главных причин «осушения» Англией экономики Индии («The British “drain” of India»), в результате чего доля последней в мировом промышленном производстве за пятьдесят лет с 1830 по 1880 гг. упала с 19,7 до 2,8 %, а ВВП на душу населения в 1870 г. был ниже, чем в 1700 г. (см. табл. 1; Maddison, 2003: 89, 117, 264).
Однако Британская империя в работах П. Байроха, А. Мэддисона, С. Бродберри и А. Клейна фигурирует только как Соединенное Королевство. Оно в 1890 г. имело максимальный ВВП на душу населения (см. табл. 2) – на 20 % больше, чем США и почти в 1,5 раза выше, чем Германия (напротив, опоздавшая к дележу колоний).
Заключение. Таким образом, утверждения о «бесконечной» и «катастрофической» экономической отсталости России от лидеров промышленной революции во многом основываются на спорных оценках, сделанных еще во второй половине XIX столетия. Современные историко-экономические исследования позволяют более объективно оценить дистанцию между уровнем индустриального и экономического развития Российской империи и экономик, наиболее продвинувшихся в этот период по пути промышленной революции. Однако проблема репрезентативности оценок динамики развития промышленности и экономики Российской империи, как и других «великих держав» в этот период, остается не решенной в должной мере. Современные зарубежные компаративные исследования в ряде случаев содержат выводы, которые основаны на смешении понятий: «Россия в фактических границах», «Россия в границах 1913 года», «территории в гра- ницах бывшего СССР». Представляется, что при сравнительных оценках уровней промышленного развития разных экономик (путем расчета «уровня индустриализации» на душу населения или аналогичных показателей) едва ли обосновано в одних случаях учитывать, а в других – не принимать во внимание численность населения территориально обособленных периферийных регионов, как и не учитывать население более развитых регионов, фактически включенных в рассматриваемые экономики. Очевидно, что применительно к экономикам лидеров промышленной революции во второй половине XIX в. целесообразно использовать методы оценки, учитывающие и численность населения, и показатели экономического развития как центров, так и периферийных территорий, включенных в систему торговых и финансовых взаимосвязей, определяющих развитие национальных экономик.
Список литературы Репрезентативность показателей и объективность оценок в компаративистике: экономика Российской империи второй половины XIX столетия в современных зарубежных исследованиях
- Водарский Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII века. М., 1977. 263 c.
- Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе. М., 2015. 536 c. Коломиец А.Г. Финансовые реформы русских царей. М., 2012. 527 с.
- Колпаков П.А. Дискуссия о железнодорожном транспорте как стратегической основе государственного развития России в 30–40-е гг. XIX в. // Манускрипт. 2021. Т. 14, № 2. С. 251–257. https://doi.org/10.30853/mns210063.
- Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформы Петра Великого. СПб., 1905. 678 с.
- Сметанин С.И., Конотопов М.В. Развитие промышленности в крепостной России. М., 2000. 463 с.
- Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. М., 1926. 448 с.
- Ульянова Г.Н. Статистика промышленности в Российской империи в 1800–1860 годы: общероссийские данные, структура по отраслям и регионам, тенденции развития в дореформенный период // Исторический курьер. 2023. № 5 (31). С. 11–36. https://doi.org/10.31518/2618-9100-2023-5-1.
- Шкунов В.Н. Государственно-правовое регулирование внешней торговли Российской империи в XVIII–XIX веках. Ульяновск, 2012. 199 с.
- Шкунов В.Н. К вопросу о торговых связях Российской империи с ханствами Средней Азии в середине XIX века // Вестник гуманитарного научного образования. Исторические науки. 2011. № 8 (10). С. 8–12.
- Alter G., Clark G., Broadberry S., O’Rourke Kh. The Demographic Transition and Human Capital // The Cambridge Economic History of Modern Europe. N. Y., 2010. P. 43–69. https://doi.org/10.1017/cbo9780511794834.004.
- Bairoch P. International Industrialization Levels from 1750 to 1980 // Journal of Economic History. 1976. Vol. 11. Р. 269–333.
- Broadberry S., Klein A. Aggregate and Per Capita GDP in Europe, 1870–2000: Continental, Regional and National Data with Changing Boundaries // Scandinavian Economic History Review. 2012. Vol. 60, iss. 1. Р. 79–107. https://doi.org/10.1080/03585522.2012.651306.
- Fremdling R., Solar P., Broadberry S., O’Rourke Kh. Industry // The Cambridge Economic History of Modern Europe. N.Y., 2010. P. 164–186. https://doi.org/10.1017/cbo9780511794834.009.
- Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective: a Book of Essays. Massachusetts, 1962. 456 р.
- Hobsbawm E.J. Industry and Empire. An Economic History of Britain since 1750. L., 1968. 336 р.
- Maddison A. The World Economy: in 2 vol. P., 2001. Vol. 1. A Millennial Perspective. 383 р.
- Maddison A. The World Economy: in 2 vol. P., 2003. Vol. 2. Historical Statistics. 273 р.
- Vries P. Europe in the World, 1500–2000. Introduction: A Diverse Continent // Global Economic History. L., 2019. Р. 299–319.
- Zhang Li. Why the Industrial Revolution Started in 18th Century Britain, Not China, from the Perspective of Globalization // Frontiers of Economics in China. 2021. Vol. 16, iss. 1. Р. 124‒169. https://doi.org/10.3868/s060-013-021-0006-5.