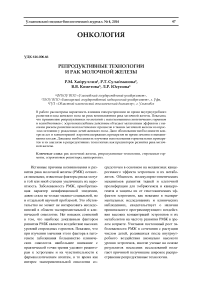Репродуктивные технологии и рак молочной железы
Автор: Хайруллин Радик Магзинурович, Сулайманова Римма Тагировна, Кометова Влада Владимировна, Юсупова Лэйсян Рифгатовна
Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu
Рубрика: Онкология
Статья в выпуске: 4, 2014 года.
Бесплатный доступ
В работе рассмотрена вероятность влияния гиперэстрогении во время внутриутробного развития плода женского пола на риск возникновения рака молочной железы. Показано, что применение репродуктивных технологий с использованием синтетических гормонов и ксенобиотиков с эстрогеноподобным действием обладает мутагенным эффектом с высоким риском развития неопластических процессов в тканях молочной железы во взрослом состоянии у рожденных детей женского пола. Дано обоснование необходимости контроля доз и концентраций эстрогенсодержащих препаратов во время зачатия и вынашивания плодов. Доказана необходимость изучения использования гормональных препаратов и их аналогов в репродуктивных технологиях как предикторов развития рака молочной железы.
Рак молочной железы, репродуктивные технологии, стероидные гормоны, эстрогеновые рецепторы, канцерогенез
Короткий адрес: https://sciup.org/14113032
IDR: 14113032 | УДК: 616-006.66
Текст научной статьи Репродуктивные технологии и рак молочной железы
Истинные причины возникновения и развития рака молочной железы (РМЖ) остаются неясными, известные факторы риска могут в той или иной степени увеличивать их вероятность. Заболеваемость РМЖ, приобретающая характер неинфекционной эпидемии, давно стала не только медико-социальной, но и отдельной научной проблемой. Это обстоятельство не может не интересовать исследователей в области экспериментальной и клинической онкологии. Нет никаких сомнений в том, что наиболее доказанным фактором развития РМЖ является воздействие высоких уровней стероидных гормонов. Показано, что при изучении значения этого фактора в патогенезе заболевания большинство клинических онкологов наибольшее внимание с практической точки зрения уделяют рецепторам к эстрогенам и их чувствительности к фармакологическим агентам, в то время как интерес экспериментальной онкологии со- средоточен в основном на механизмах канцерогенного эффекта эстрогенов и их метаболитов. Общность молекулярно-генетических механизмов развития тканей и клеточной пролиферации для эмбриогенеза и канцерогенеза и защиты их от генотоксических эффектов эстрогенов, как показано в экспериментальных исследованиях и клинических наблюдениях, свидетельствует о наличии пренатального программирующего воздействия высоких концентраций эстрогенов и их метаболитов на частоту развития РМЖ в зрелом возрасте. Учитывая постоянный рост заболеваемости РМЖ в сочетании с растущим числом детей, родившихся после внутриутробного воздействия аномально высокого уровня эстрогенов, многие ученые на основе результатов последних исследований полагают причиной получившие широкое распространение репродуктивные технологии.
Большие надежды клиницистов и исследователей возлагаются на изыскание ранних предикторов РМЖ [16]. Гиперэстрогения или ее аналоги сопровождают современного человека на всем протяжении его жизни, начиная с периода внутриутробного развития. У человека, как у большинства млекопитающих, благополучие постнатального индивидуального развития и репродуктивная адаптивность во взрослой жизни непосредственно зависят от внутриутробных условий. Все факторы, в т.ч. уровень материнских, плацентарных и экзогенных гормонов в период становления жизненно важных органов, являются ключевыми регуляторами репродуктивного здоровья потомства [11]. Кроме этого, микроэлементы, нутриенты, кислород и ксенобиотики, поступающие от матери к плоду, определяют условия его жизни. Особенность пренатального развития плода человека такова, что воздействие перечисленных выше факторов и условий необратимо программирует метаболические и структурнофункциональные особенности будущего организма на генетическом уровне. Эти процессы воплощаются в жестко детерминируемых индивидуальных уровнях чувствительности рецепторов к гормонам в органах-мишенях [3, 12, 15].
Рецепторы к эстрогенам играют важную роль в регуляции клеточных и тканевых процессов в молочной железе, в т.ч. ее закладке, росте и морфогенезе после рождения [9, 13]. Согласно ряду исследований, в железистых структурах органа существует два вида рецепторов – ER-α и ER-β. Активность каждого вида рецептора дозозависима от уровня эстрогенов в организме женщины [2]. Развитие неопластических изменений в молочной железе провоцируется избыточной экспрессией рецепторов. Другие авторы утверждают, что, кроме самих эстрогенов, продукты их распада вызывают расплетение и увеличение числа разрывов цепочек нуклеиновых кислот [5]. В ходе биохимической трансформации эстрогенов образуются агрессивные свободные радикалы. Они способны оказывать повреждающее и мутагенное действие на ДНК. Все вышеперечисленное в конечном итоге приводит к новообразованиям [14]. Такие па- тологические изменения прослеживаются в разных структурах молочной железы [6, 10].
Формирующиеся в период внутриутробного развития органы плода являются уязвимыми из-за общих малых размеров и малого количества клеток, развивающихся в будущем в определенные ткани или органы. По этой причине воздействия различных негативных факторов накладывают свой необратимый отпечаток на небольшую группу клеток, приводят к развитию патологии впоследствии, т.е. во взрослой жизни. Воздействие таких потенциальных преканцерогенов, как высокий уровень материнских гормонов, синтетических гормонов, используемых для предотвращения невынашивания беременности, а также ксенобиотиков с эстрогеноподобным действием и тропностью к эстрогеновым рецепторам, оказывает существенное влияние на структуры и метаболизм фетальных клеток. Характерной чертой эмбрионального развития является исключительно высокая скорость митозов клеток с коротким митотическим циклом, а также повышенная скорость формирования структур и построения обменных процессов. В развитии эмбриона и плода периоды закладки жизненно важных структур и функций измеряются часами или сутками, в отличие от постнатального онтогенеза, продолжающегося десятки лет. Соответственно, эффективная длительность воздействия токсического агента для провоцирования патологии или изменения метаболизма в пренатальный период укорачивается до минимальной, не сравнимой по своим последствиям с аналогичными параметрами в постнатальном онтогенезе. Еще одной существенной особенностью развития эмбриональных тканей плода является наличие критического периода, «окна адаптивного ответа» на агрессивное воздействие различных агентов [8]. В этот период они могут не только спровоцировать видимые на макро-и микроскопическом уровне патологические изменения чувствительных органов-мишеней, но и непосредственно повлиять на метаболизм и вызвать нарушения и изменения в функционировании систем до и после рождения плода, оказать существенное влияние на здоровье и продолжительность жизни [15].
Важным для проблемы выявления предикторов РМЖ является то, что процессы, аналогичные перечисленным выше, имеют место в организме плода женского пола даже при физиологическом повышении уровня эстрогенов в крови матери. Внутриутробное развитие плода неразрывно связано с работой эндокринной системы матери и клетками плаценты. Длительная персистенция избыточного гормонального фона и экзогенных соединений стероидной природы, нефизиологический прессинг гормонов, вводимых для сохранения беременности, могут оказать неявный, отсроченный канцерогенный и тератогенный эффект на уязвимые ткани, находящиеся в состоянии активного роста и пролиферации, либо привести к модификации их развития [1, 2, 11, 17]. Доказано, что для канцерогенной индукции развития вполне достаточен уровень гормонов на верхней границе нормы или немного выше [2]. Данные последних лет по эпидемиологии РМЖ и экспериментальному исследованию постнатальных эффектов пренатального воздействия синтетических эстрогенов убедительно свидетельствуют, что предиктором высокого риска РМЖ является гиперэстрогения, представляющая неотъемлемую часть современных репродуктивных технологий. В цивилизованных странах около 1 % всех новорожденных рождается с помощью репродуктивных технологий. Результатом их 35-летнего усовершенствования стали 5 млн появившихся на свет детей. Половина их рождена с помощью репродуктивных технологий в последние шесть лет. Количество таких детей растет в геометрической прогрессии [10]. На ежегодном собрании ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) в 2013 г. были представлены данные ретроспективных исследований женщин, ставших матерями с помощью репродуктивных технологий с 1983 по 1995 г. Основные статистические данные, полученные в ходе опроса, указывали в 44 % случаях на высокий риск РМЖ. В ходе всего исследования прослеживалась взаимосвязь между высоким уровнем стероидных гормонов, используемых в репродуктивных технологиях, в первую очередь синтетических эстрогенов. Высказывается гипотеза о связи ме- жду высоким имплантационным потенциалом матери и ростом риска развития неопластических изменений молочной железы [10]. Данные зафиксированы у матерей без возможности прослеживания динамики и взаимосвязи здоровья и развития канцерогенных рисков, связанных с пренатальным гиперстероидным состоянием ребенка, рожденного с помощью репродуктивных технологий.
Мутагенные эффекты синтетических эстрогенов начинают проявляться при пороговых дозировках препаратов [4]. Их воздействие и воздействие продуктов метаболического распада из-за связывания с митохондриальной ДНК способствует нестабильности генома митохондрий. В естественных условиях образование комплексов «эстрогены – митохондриальная ДНК» приводит к аномальным девиациям процессов репликации и транскрипции генов. Таким образом объясняются генотоксические свойства синтетических эстрогенов и большая вероятность наследования генетической нестабильности по мужской линии при отсутствии отсроченного канцерогенного эффекта в последующих поколениях мальчиков [8]. Стремительное развитие технологии экстракорпорального оплодотворения привело к появлению новых ее разновидностей. Последней разработкой стала так называемая Three Parent In Vitro Fertilization (TPIVF), в которой для предотвращения передачи заболеваний, связанных с митохондриальной ДНК, используют цитоплазму с митохондриями третьего лица. Но при этом предотвращение риска митохондриальных болезней не означает предотвращение риска передачи с митохондриальным геномом преканцерогенных факторов РМЖ и других видов опухолей. Еще в 2001 г. было показано, что именно эта ДНК является наиболее чувствительной к мутагенному действию синтетических эстрогенов по сравнению с ядерной. Мужская митохондриальная ДНК демонстрирует к этому большую чувствительность [7]. Отсюда следует, что ряд генетических факторов риска РМЖ передается по мужской линии с митохондриальной ДНК. Таким образом, если в стандартной технологии TPIVF третьим компонентом технологии в цитоплазме оплодотворенного яйца станут явно мужские митохондрии, то в геном будущей девочки добавится дополнительный комплект митохондрий с мутагенной ДНК, а сумма потенциальных предикторов канцерогенеза удвоится. Следовательно, новые технологии еще более увеличивают риск РМЖ, суммируя генотоксические эффекты эстрогенов на ядерную и митохондриальную ДНК.
Таким образом, из ныне живущего поколения детей женского пола потенциально наиболее уязвимой группой по риску развития РМЖ являются девочки, рожденные с помощью репродуктивных технологий. При разработке и использовании новых технологий репродукции человека гормональное сопровождение каждого этапа должно быть тщательно обосновано на предмет доз и концентрации эстрогенов с учетом возможных преканцерогенных эффектов фактора пренатальной гиперэстрогении и риска развития РМЖ.
REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES AND BREAST CANCER
R.M. Khayrullin1, R.T. Sulaimanova2, V.V. Kometova3, L.R. Usupova2
-
1Ulyanovsk State University,
-
2Bashkirsky State Medical University, Ufa, 3Ulyanovsk Regional Clinical Oncological Hospital
Список литературы Репродуктивные технологии и рак молочной железы
- Charlier C. Environmental dichlor-o-diphenyl-trichlorethane or hexachlorobenzene exposure and breast cancer: is there a risk?/C. Charlier, F. M. Foidart, F. Pitance//Clin. Chem. Lab. Med. -2004. -Vol. 42 (2). -P. 222-227.
- Choi J. p53 in embryonic development: maintaining a fine balance/J. Choi, L. A. Donehower//Cell Mol. Life Sci. -1999. -Vol. 55 (1). -P. 38-47.
- Correlation of umbilical cord blood hormones and growth factors with stem cell potential: implications for the prenatal origin of breast cancer hypothesis/T. M. Savarese //Breast Cancer Res. -2007. -Vol. 9 (3). -P. R29. -URL: http:// DOI: 10.1186/bcr1674
- Den Hond E. Endocrine disrupters and human puberty/E. Den Hond, G. Schoeters//Int. J. Androl. -2006. -Vol. 29 (1). -P. 264-271.
- EMT inducers catalyze malignant transformation of mammary epithelial cells and drive tumorigenesis towards claudin-low tumors in transgenic mice/A. P. Morel //PLoS Genet. -2012. -Vol. 8 (5). -P. e1002723. -URL: http:// DOI: 10.1371/journal.pgen.1002723
- Estrogen-induced rat breast carcinogenesis is characterized by alterations in DNA methylation, histone modifications and aberrant microRNA expression/O. Kovalchuk //Cell Cycle. -2007. -Vol. 15, № 6 (16). -Р. 2010-2018.
- Gene expression profile of terminal end buds in rat mammary glands exposed to diethylstilbestrol in neonatal period/Y. Umekita //Toxicol Lett. -2011. -Vol. 10, № 205 (1). -P. 15-25.
- Godfrey K. M. Fetal programming and adult health/K. M. Godfrey, D. J. Barker//Public Health Nutr. -2001. -Vol. 4(2B). -P. 611-624.
- Hatsumi T. Downregulation of estrogen receptor gene expression by exogenous 17beta-estradiol in the mammary glands of lactating mice/T. Hatsumi, Y. Yamamuro//Exp. Biol. Med. (Maywood). -2006. -Vol. 231 (3). -P. 311-316.
- Increased breast cancer risk after multiple implantation in IVF: a cohort study/E. Groeneveld //ESHRE. -2013. -Abstract L13. -P. 1178.
- Lau C. Embryonic and fetal programming of physiological disorders in adulthood/C. Lau, J. M. Rogers//Birth Defects Res. C. Embryo Today. -2004. -Vol. 72 (4). -P. 300-312.
- Over-expression of Skp2 is associated with resistance to preoperative doxorubicin-based chemotherapy in primary breast cancer/S. Davidovich //Breast Cancer Res. -2008. -Vol. 10 (4). -P. R63.
- Pesticide Monitoring Program -2009. Pesticide Report. U.S. Food and Drug Administration. -2009. -39 p.
- Promotion of estrogen-induced mammary gland Carcinogenesis by androgen in the male Noble rat: Probable mediation by steroid receptors/D. Z. J. Liao //Carcinogenesis. -1998. -Vol. 19 (12). -P. 2173-2180.
- Skp2B overexpression alters a prohibitin-p53 axis and the transcription of PAPP-A, the protease of insulin-like growth factor binding protein 4/H. Chander //PLoS One. -2011. -Vol. 6 (8). -P. e22456. -URL: http:// pone. 0022456 DOI: 10.1371/journal
- Snedeker S. M. Pesticides and breast cancer risk: a review of DDT, DDE, and dieldrin/S. M. Snedeker//Environ Health Perspect. -2001. -Vol. 109 (suppl. 1). -P. 35-47.
- Toxicological profile for DDT, DDE, and DDD. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. -2002. -477 p.