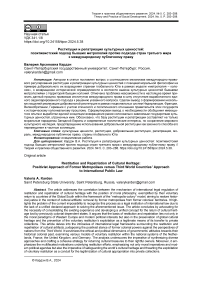Реституция и репатриация культурных ценностей: позитивистский подход бывших метрополий против подхода стран третьего мира к международному публичному праву
Автор: Кардэн В.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
Автором в статье поставлен вопрос о соотношении механизма международно-правового регулирования реституции и репатриации культурных ценностей с позицией моральной философии на примере добровольного их возращения странам глобального Юга в рамках модели «метрополия - колония», о возвращении исторической справедливости в контексте вывоза культурных ценностей бывшими метрополиями с территорий бывших колоний. Отмечена проблема невозможности в настоящее время признать данный процесс правовым институтом международного права в силу отсутствия выработанного единого задекларированного подхода к решению указанного вопроса. Сделан вывод о формировании нескольких моделей реализации добровольной реституции в рамках национальных систем Нидерландов, Франции, Великобритании, Германии с учетом этического и политического отношения правительств этих государств к историческому колониальному прошлому. Сформулирован вывод о необходимости обобщения имеющегося опыта и выработки единой концепции возвращения ранее колониально зависимым государствам культурных ценностей, утраченных ими. Обосновано, что базу реституции и репатриации составляют не только моральные парадигмы Западной Европы и современные политические интересы, но сохранение мирового культурного наследия, предотвращение использования добровольной реституции как законного способа его перемещения в частные коллекции.
Культурные ценности, реституция, добровольная реституция, репатриация, мораль, международное публичное право, страны глобального юга
Короткий адрес: https://sciup.org/149145470
IDR: 149145470 | УДК: 341.1/8 | DOI: 10.24158/tipor.2024.5.38
Текст научной статьи Реституция и репатриация культурных ценностей: позитивистский подход бывших метрополий против подхода стран третьего мира к международному публичному праву
Проблема реституции и репатриации культурных ценностей уходит корнями в период колониальной эпохи. Она начала проявляться в числе ключевых вопросов международно-правовой охраны культурных ценностей сразу после окончания Второй мировой войны в связи с беспрецедентным масштабом их перемещений. В условиях военно-политической, финансово-экономической нестабильности, разрыва отношений между государствами проблема сохранения мирового культурного наследия остается актуальной.
Вопросы международно-правового регулирования культурных ценностей стали предметом дискуссий и обсуждений только начиная с XIX–XX вв. До этого момента в международном сообществе складывалось мнение, что в случае вооруженного конфликта захват и перемещение культурных ценностей за пределы государств происхождения допустимы. Только во второй половине XX в. страны поддержали идею принудительной реституции и репатриации культурных ценностей, неправомерно вывезенных в другие государства в период войн, военных мятежей и переворотов. На протяжении длительного периода в XX в. страны Западной Европы и США отрицали значимость решения вопроса о возвращении культурных ценностей, захваченных в колониальный период. Трансформация приоритетных правозащитных ценностей, переоценка своего прошлого, прежде всего осуждение исторического колониального периода, являлись предпосылкой пересмотра вопроса о реституции и репатриации культурных ценностей бывшим колониям. Соответственно, реституция похищенных и незаконно перемещенных произведений искусства и культурных ценностей имеет непреходящее значение как для государств их происхождения, так и для владельцев частных коллекций.
Реституция – юридический инструмент, имеющий принудительно-обязывающий характер, который в частном праве является способом защиты нарушенного права собственности. В отношении культурных ценностей репатриация – это возвращение культурных ценностей на территорию их происхождения или наибольшей культурной связи, что, как правило, следует из мирных договоров. Реституция – правовой концепт, который можно при помощи формально-юридической логики и позитивистского подхода использовать в качестве предписывающей обязывающей государства нормы, в то время как репатриация – это, как правило, добровольная, внеюридическая концепция по возврату перемещенных культурных ценностей.
Далее рассмотрен позитивистский подход бывших метрополий к реституции и репатриации культурных ценностей против подхода стран третьего мира к международному публичному праву.
Развитие и формирование института реституции происходило в бóльшей степени при участии стран глобального Севера. В связи с этим правовые нормы, регулирующие реституцию, существуют в настоящее время с учетом интересов бывших метрополий.
Различие между «цивилизованным» и «нецивилизованным» миром и соответствующий отказ последнему в суверенитете в европейском международном праве XIX в. не только были связаны с расовым превосходством или доминированием, но и коренились в логике капитализма. Реализация «государственности» в рамках международного права стала синонимом насильственной капиталистической трансформации (Багчи, 2022).
Сложность разрешения споров о возврате культурных ценностей заключается в столкновении правил и принципов. Проблемы реституции и репатриации культурных ценностей были актуализированы в связи с решением Правительства Нидерландов и ряда других государств Западной Европы (Германии, Франции) о возвращении странам глобального Юга культурных ценностей, изъятых в период колониальных отношений между ними1. В 2020 г. Министерство культуры Нидерландов обнародовало призыв к другим государствам, ранее имевшим в составе колониально зависимые территории, на добровольной основе с учетом моральной ответственности за «жестокое поведение в колониальный период» признать изъятие культурных ценностей с территории стран глобального Юга незаконным и запустить процесс их возвращения. Так, К.Л. Сазонова в своем исследовании обосновывает колоссальное влияние колониальной эпохи на процесс распределения культурных ценностей на планете (2020).
Важно отметить, что в условиях построения многополярного мира, формирования различных территориальных, социально-экономических, политических союзов и содружеств резко возрастает роль бывших колоний в международных отношениях: Африки, Латинской Америки, Индии. Именно государства указанных территорий в период колониальной зависимости утратили культурные ценности. Уже более 70 лет подряд страны глобального Юга предъявляют бывшим метрополиям требования о реституции и репатриации культурных ценностей на их историческую родину. Динамизм развития бывших колоний с учетом возрастания их доли в масштабах международной торговли способствует усилению их влияния как политических и экономических держав в мировом масштабе1, следовательно, проблема возвращения культурных ценностей данным государствам требует обсуждения и урегулирования.
Колонизация означала стирание специфики колонизированного государства. Именно в этот период были сформированы доктрины и правила современного международного права (Сontemporary International Law – CIL) как способ реагирования на колониализм и его оправдания (Chimni, 2004). Из ответственности государств за международно-противоправные деяния исключается ответственность за политику империализма. Закон об ответственности государства исторически был призван защищать права иностранцев в эпоху колониализма, в частности право собственности. Оно развивалось в неразрывной связи с законом о национализации и экспроприации чужого имущества2.
Мы не можем считать такой подход справедливым. Позиция бывших метрополий, базирующаяся на принципе справедливости (возврат культурных ценностей, ранее принадлежавших эксколониям), обоснованна и должна превалировать над формально-юридическим подходом бывших метрополий.
Бывшие метрополии, опираясь на позитивистский подход, выступают против возврата культурных ценностей. Ценности, которые были перемещены бывшими метрополиями на свои территории, в сознании граждан стран глобального Севера привязаны к их национальному самосознанию. Вывезенные культурные ценности стали новыми обязательными символами статуса (Jakubowski, 2020).
Бывшие метрополии заявляют о невозможности вернуть перемещенные культурные ценности не только на том основании, что бывшие колонии не способны на сегодняшний день обеспечить должной охраны и сохранения культурных ценностей, но также по причине нарушения права своих граждан на доступ к культурным ценностям как гарантированной возможности свободного доступа к материальным и нематериальным ценностям, составляющим культурное наследие (Сазонова, 2020), находящееся под защитой и охраной отдельного государства или международного сообщества, в случае возврата на территорию, с которой они были вывезены.
Сраны глобального Севера (метрополии) ссылаются на закрепление права на доступ к культурным ценностям в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. (далее – МПЭСКП)3, основанном на праве каждого принимать участие в культурной жизни. Вопрос доступа к культурным ценностям в столкновении с правом на культурную идентичность для бывших колоний становится морально-этическим.
Между тем, защищая право своих граждан и граждан других государств на доступ к культурным ценностям, вывезенным из стран-колоний, открытостью и доступностью музеев мирового уровня бывшие метрополии входят в конфликт с правом граждан бывших колоний на неограниченный доступ к культурным ценностям, не обосновывая предполагаемый приоритет. Принимая во внимание тот факт, что пакты и конвенции, регулирующие порядок осуществления реституции, создавались и принимались с перевесом интересов стран глобального Севера, можно утверждать, что интересы государств глобального Юга должным образом не были учтены.
Вопрос права международных договоров заключается в том, чтобы определить, является ли государство участником действительного договора, находится ли договор в силе для этого государства, в отношении каких положений и как этот договор следует толковать (Crawford, 2002).
При решении проблемы возможности применения реституции как формы ответственности за международное противоправное деяние бывших метрополий исследователями из стран глобального Севера часто ставится вопрос о праве собственности на культурные ценности – кому данные предметы культурной идентичности должны принадлежать? Кроме того, поднимается вопрос о понятии культурной ценности, которая обозначается как культурная собственность, представляющая собой одно из основных прав человека – право частной собственности. Соответственно, на государство возлагается обязанность создать условия для возможной защиты прав собственника предметов культуры, будь то отдельный человек или народ (Жуков, 2017).
Бывшие метрополии, применяя понятие национального культурного достояния в отношении категорий культурных ценностей, устанавливают особый режим охраны – культурные ценности не подлежат вывозу за пределы территории страны, в которой находятся, а потому их невозможно реституировать или вернуть. Бывшие колонии предпринимают попытки распространить понятие геноцида на культурные ценности, вывезенные с их территорий экс-метрополиями в период колониального гнета, однако данные попытки на сегодняшний день не имеют формальноюридического подкрепления.
Несмотря на признание существования культурных прав, Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах не содержали явных ссылок на какие-либо гарантии прав человека в отношении культурного наследия. Более того, неспособность международного права расширить понятие геноцида за пределы его биологического измерения и включить в него культуру уже давно подорвала всю юридическую дискуссию о культурных правах и привела к отсутствию культурного элемента в основных международных договорах по правам человека. Даже МПЭСКП не разъясняет, какие меры защиты прав человека применяются к вопросам культуры, хотя данный документ и включает в свое название термин «культурные права» (Jakubowski, 2020).
В настоящее время отсутствуют международно-правовые основы указанных процессов. На современном этапе формируются модели взаимодействия государств в рамках национального законодательства и двухсторонних межгосударственных соглашений. На глобальном уровне обсуждались и принимались механизмы возвращения культурных ценностей с учетом событий XX в. На колониальные периоды они юридическую силу не распространяют. Например, Конвенция ЮНЕСКО 1970 г. о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, не регулирует случаи реституции и репатриации культурных ценностей, связанные с колониальной эпохой. Недостатком применения Конвенции ЮНИДРУА 1995 г. о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях, положения которой можно было использовать для разрешения вопросов правового режима «колониального искусства», выступает игнорирование ее подписания и отсутствие ратификации со стороны бывших метрополий.
Хотя в документах ООН и Совета Европы культура упоминается как одна из фундаментальных сфер защиты меньшинств, последний прямо обязывает государства-участники сохранять основные элементы их идентичности, а именно их религию, язык, традиции и культурное наследие1. В данных положениях не предусмотрена возможность судебной защиты таких прав культурных меньшинств (Jakubowski, 2020).
Актуальным является вопрос детализации передачи культурных ценностей, персонализации субъектов передающей и принимающей сторон. Особенно важна юридическая и фактическая судьба культурных ценностей после их возвращения государствам глобального Юга. Необходимо определить правовой статус принимающей стороны, в том числе установить собственников, у которых они были изъяты в прошлом, правовую основу их отчуждения в период колониального прошлого (добровольность или принудительное незаконное изъятие). Так, представители Нидерландов, заявляя о массовом возвращении культурных ценностей на историческую родину, отмечают, что по каждому такому предмету будет проведено тщательное расследование, направленное на определение юридических и политических моментов их поступления в культурное наследие Нидерландов. Аналогичной позиции придерживаются и сенаторы Франции, указывая на необходимость обоснования реституции в каждом конкретном случае.
Фактически реальные международные юридические механизмы по воздействию на эксметрополии в настоящее время отсутствуют. Тем не менее возвращение художественных ценностей колониям вполне возможно в рамках так называемой добровольной реституции со стороны бывших метрополий, «именно добровольная реституция культурных объектов становится важнейшей тенденцией в реализации моральной ответственности государств» (Сазонова, 2020). Полагаем, что они должны поступить в государственную собственность без передачи в частные коллекции. Но в данной ситуации актуальной является проблема правомерности ограничения прав нового собственника в пользовании таким имуществом, тем более в условиях чужой правовой национальной системы.
1 Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств [Электронный ресурс] : от
Остается открытым вопрос сохранности и безопасности переданных культурных ценностей. В условиях политической нестабильности на территории глобального Юга отсутствуют гарантии обеспечения целостности переданного культурного наследия и предотвращения его утраты, передачи в частные коллекции. В сложившейся ситуации можно рассмотреть механизм компенсаторной реституции как восполнения ущерба, причиненного колониальным прошлым без передачи исторических артефактов экс-колониям.
Таким образом, правовой институт реституции и репатриации международного публичного права трансформируется в связи с расширением оснований для применения его положений.
На международном уровне отсутствует единый закон о возврате культурных ценностей странам глобального Юга, основу данного процесса составляет добровольное решение отдельных государств, базирующееся на моральной ответственности за прошлое колониальное порабощение других государств. В настоящее время развивается добровольная реституция культурных ценностей, основанная на свободном политическом волеизъявлении страны (экс-метрополии) с учетом особенностей национальных задач, правовой системы, уровня моральной ответственности за колониальное прошлое.
В комментарии к проекту статей Комиссии международного права об ответственности государств за международно-противоправные деяния говорится: «Эти статьи не пытаются определить содержание международных обязательств, нарушение которых влечет за собой ответственность. Это функция первичных норм, кодификация которых потребует переформулирования большей части материального международного права, обычного или конвенционного» (Chimni, 2004).
Трансформация международного подынститута добровольной реституции возможна путем обобщения механизмов правового регулирования в рамках национальных практик. Более приемлемым полагаем решение юридической судьбы при поступлении запроса и формировании реакции государства на поступившие требования.
Исследование позволяет сформулировать следующие выводы.
Во-первых, унифицированная международная модель взаимоотношений метрополий и бывших колоний по вопросу реституции и репатриации культурных ценностей на современном этапе развития внешнеполитических отношений отсутствует.
Во-вторых, юридические механизмы по воздействию стран третьего мира (экс-колоний) на экс-метрополии в данном вопросе регулируются в каждом государстве положениями национального законодательства.
В-третьих, формой морально-правовой ответственности государств за колониальное прошлое в настоящее время является добровольная реституция, основу которой составляет в большей мере политическое решение экс-метрополии по возврату культурных ценностей на их историческую родину (бывшим колониям).
В-четвертых, в целях обеспечения сохранности и безопасности передаваемых культурных ценностей в условиях политической нестабильности в странах третьего мира, предотвращения их утраты и передачи в частные коллекции вносится предложение о введении механизма компенсаторной реституции как восполнения ущерба, причиненного колониальным прошлым, без передачи исторических артефактов экс-колониям.
Список литературы Реституция и репатриация культурных ценностей: позитивистский подход бывших метрополий против подхода стран третьего мира к международному публичному праву
- Багчи К. Марксистский подход к международному праву // Дайджест публичного права. 2022. № 11. С. 171-194.
- Жуков Д.В. Право на доступ к культурным ценностям: сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 4 (65). С. 81-86. DOI: 10.12737/article_598063facde5a2.87050051 EDN: ZEINQX
- Сазонова К.Л. Долгая дорога домой: возвращение культурных ценностей бывших колоний как важный политический тренд // Международная жизнь. 2020. № 10. С. 62-75. EDN: UEMCYY
- Chimni B.S. An outline of a Marxist course on public international law // Leiden Journal of International Law. 2004. Vol. 17, no. 1. P. 1-30. DOI: 10.1017/S0922156504001591 EDN: FPBRXD
- Crawford J. The international law commission's articles on state responsibility.Introduction, text and commentaries. Cambridge, 2002. 92 p.
- Jakubowski A. Cultural rights and cultural heritage as a global concern // The Oxford handbook of law and anthropology / ed. by M.-C. Foblet, M. Goodale, M. Sapignoli, O. Zenker. Oxford, 2020. P. 475-492. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198840534.013.29