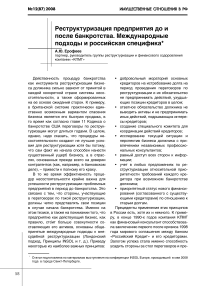Реструктуризация предприятия до и после банкротства. Международные подходы и российская специфика
Автор: Ерофеев А.Ю.
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Антикризисное управление
Статья в выпуске: 12 (87), 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170151729
IDR: 170151729
Текст статьи Реструктуризация предприятия до и после банкротства. Международные подходы и российская специфика
А.Ю. Ерофеев партнер, руководитель группы реструктуризации и финансового оздоровления компании «КПМГ»
Действенность процедур банкротства как инструмента реструктуризации бизнеса должника сильно зависит от принятой в каждой конкретной стране системы несостоятельности, а также сформированных на ее основе ожиданий сторон. К примеру, в британской системе практически единственно возможным вариантом спасения бизнеса является его быстрая продажа, в то время как согласно главе 11 Кодекса о банкротстве США переговоры по реструктуризации могут длиться годами. В целом, однако, надо сказать, что процедуры несостоятельности создают не лучшие условия для реструктуризации хотя бы потому, что сам факт их начала способен нанести существенный ущерб бизнесу, а в отраслях, основанных прежде всего на доверии контрагентов (как, например, в банковском деле), – привести к полному его краху.
В то же время эффективность процедур несостоятельности крайне важна для успешности реструктуризации проблемных предприятий в период до банкротства. Это связано с тем, что стороны, участвующие в переговорах по такой реструктуризации, должны четко представлять свои позиции в случае начала банкротства. Именно на этом тезисе, а также на понимании того, что предприятие как действующий бизнес, как правило, сто ́ ит больше совокупности составляющих его активов, основаны общепринятые международные подходы к внесудебной реструктуризации (Лондонский подход, Принципы INSOL и т. д.). Приведу некоторые из наиболее важных принципов:
-
• добровольный мораторий основных кредиторов на истребование долга на период проведения переговоров по реструктуризации и их обязательство не предпринимать действий, ухудшающих позиции кредиторов в целом;
-
• ответное обязательство должника не выводить активы и не предпринимать иных действий, подрывающих интересы кредиторов;
-
• создание специального комитета для координации действий кредиторов;
-
• исследование текущей ситуации и перспектив бизнеса должника с привлечением независимых профессиональных консультантов;
-
• равный доступ всех сторон к информации;
-
• учет в любых предложениях по реструктуризации относительной приоритетности требований каждого кредитора при возможном банкротстве должника;
-
• приоритетный статус нового финансирования (согласованного с существующими кредиторами) по отношению к старым долгам.
Прецеденты применения этих принципов в России есть, хотя их и немного. К примеру, в конце 1990-х годов компания КПМГ как финансовый консультант способствовала заключению первого после кризиса 1998 года мирового соглашения между банком «Российский Кредит» и его кредиторами. Залогом успеха стала именно способность усадить стороны за стол переговоров и пре- доставление им объективной информации. После принятия Федерального закона от 8 июля 1999 года № 144-ФЗ «О реструктуризации кредитных организаций» соглашение было одобрено российским арбитражным судом, а впоследствии было признано одним из судов США по банкротству как отвечающее международной практике и стандартам.
Тем не менее примеров успешной внесудебной реструктуризации бизнеса в России по-прежнему мало. Почему? Основной причиной я считаю сохраняющуюся неэффективность всей российской системы банкротства, несмотря на различные попытки реформировать ее начиная с 1992 года. Уже неоднократно отмечалось, что основная цель разработчиков Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» состояла в прекращении использования банкротства как инструмента рейдерского передела бизнеса. Цель, конечно, благая, но единственная (иначе проще всего было бы отменить банкротство вообще!). На мой взгляд, современная система банкротства имеет ряд серьезнейших недостатков, в частности:
-
• задержки на этапе возбуждения дела и в ходе периода наблюдения, которые способны привести к разрушению даже жизнеспособного бизнеса;
-
• «дырявое» определение моратория, не освобождающее должника от всех предбанкротных обязательств;
-
• отсутствие ряда важных полномочий у арбитражных управляющих;
-
• определение цели внешнего управления как полного расчета с кредиторами;
-
• ограничение возможностей государства (представленного налоговыми органами) как кредитора участвовать в заключении мирового соглашения;
-
• неработающая процедура финансового оздоровления;
-
• недостатки системы назначения арбитражных управляющих (об этом я скажу далее) и т. д.
В результате действующий закон не только эффективно не защищает права кредиторов, но и не выполняет задачу спасения жизнеспособных частей бизнеса должника. Неслучайно, как неоднократно указывалось на этом форуме, огромное большинство дел о банкротстве заканчивается конкурсным производством и ликвидацией должника. При этом внешне кипит бурная деятельность: увеличивается число дел о несостоятельности, суды, арбитражные управляющие и уполномоченные государственные органы загружены «под завязку». Лишними здесь, пожалуй, остаются только крупные профессиональные международные фирмы (поскольку банкротство в отличие от многих стран, где мы работаем, в силу перечисленных причин так и не стало в России серьезной областью оказания наших профессиональных услуг). Кроме того, оказались невостребованными и крупнейшие международные специалисты по несостоятельности, в 90-е годы прошлого века с энтузиазмом пытавшиеся помочь в реформировании российской системы банкротства (Марк Хоуман, Манфред Бальц, Филипп Вуд и другие).
О системе арбитражного управления, действующей согласно нынешнему российскому закону, хочется сказать особо. С одной стороны, конечно, в этом деле достигнут существенный прогресс – по сравнению с практически полным отсутствием регулирования в 1990-е годы некоторые из созданных саморегулирующих организаций арбитражных управляющих (СРО) выработали достаточно четкие стандарты и правила деятельности. В то же время сама система назначения арбитражных управляющих, когда вместо конкретного лица кредитору предлагается выбрать СРО, которая и предлагает конкретные кандидатуры, является, насколько я знаю, беспрецедентной в мировой практике и, на мой взгляд, весьма странной. Если арбитражный управляющий зарабатывает на жизнь своей профессиональной деятельностью, то почему его успешность должна зависеть не от его собственного реноме на рынке, а от репутации СРО, в которую он входит, и от его личных отношений с руководством этой СРО? Непонятно также, почему такой арбитражный управляющий должен принимать финансовое участие в гарантировании профес- сиональной ответственности других членов своего СРО, многих из которых он, вероятно, даже не знает лично.
Такая система несколько напоминает систему, практикуемую в крупных фирмах арбитражных управляющих (к примеру КПМГ в Великобритании). Там во многих случаях партнеры фирмы совместно решают, кто из них является лучшим кандидатом на то или иное дело с учетом опыта, текущей загрузки и других факторов. Но отличие состоит в том, что в таких партнерствах партнеры совместно участвуют в прибылях и подчинены единой иерархии, имеют общие стандарты качества, бизнес-процессы, персонал и т. д. К тому же даже в крупнейших фирмах не может быть сто партнеров – практикующих арбитражных управляющих (минимум для российской СРО). В нынешней же российской конфигурации система, на мой взгляд, неэффективна.
Возможно, оптимальным путем в России также может быть всяческое стимулирование создания крупных фирм арбитражных управляющих, однако это возможно только при условии решения еще одной фундаментальной проблемы – установление достойного рыночного вознаграждения арбитражным управляющим и членам их команд.
В заключение хотелось бы отметить, что в последние годы внимание общества к проблематике банкротства было невысоким в силу отсутствия громких дел о переделе собственности с его использованием, а также общей благоприятной экономической ситуации. Однако есть основания полагать, что ситуация в скором времени изменится. Кризис ликвидности на мировых финансовых рынках, хотя и вряд ли приведет к депрессии в российской экономике, уже вызывает большие трудности у множества компаний, практиковавших агрессивную политику заимствований. Некоторые из этих компаний уже не могут рефинансировать свои обязательства и оказываются неплатежеспособными. Другим фактором, действующим в этом направлении, является общее повышение конкуренции (особенно в потребительских отраслях), связанное с этим снижение нормы рентабельности и, как следствие, вытеснение с рынка слабых игроков. Также можно назвать рост цен на энергоносители и ряд других важных факторов производства, накопление портфелей проблемных кредитов в банковской системе и т. д.
Все это, по моему мнению, приведет к обострению необходимости радикальным образом повысить эффективность процедур несостоятельности, и этим вопросом государству и всем заинтересованным сторонам надо заниматься уже сейчас. В то же время было бы крайне полезным, если бы в России были выработаны и принципы поведения крупных кредиторов и должников в условиях внесудебной реструктуризации (подобные приведенным). Первую скрипку в этом процессе могли бы сыграть крупные ассоциации бизнеса, такие как Ассоциация российских банков, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей и т. д.
КПМГ и, я уверен, другие крупные консалтинговые фирмы будут готовы оказать посильную помощь в этом деле, используя свой международный и российский опыт.