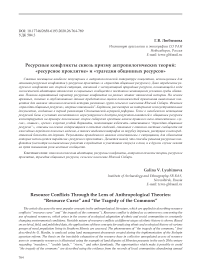Ресурсные конфликты сквозь призму антропологических теорий: "ресурсное проклятие" и "трагедия общинных ресурсов"
Автор: Любимова Г.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена наиболее популярным в антропологической литературе концептам, используемым для описания ресурсных конфликтов («ресурсное проклятие» и «трагедия общинных ресурсов»). Дано определение ресурсного конфликта как спорной ситуации, связанной с эксплуатацией природных ресурсов, возникающей в ходе экологической адаптации этнических и социальных сообществ к постоянно меняющимся условиям среды обитания. Показан вариативный характер ресурсных конфликтов на разных этапах этнической истории. На основе архивных, полевых и опубликованных данных представлена оценка возможностей применения выявленных концептов для анализа этноэкологической истории различных групп сельского населения Южной Сибири. Феномен «трагедии общинных ресурсов», впервые описанный Г. Хардином, рассмотрен на материалах землеустроительных документов, созданных в период реализации Столыпинской аграрной реформы. Тезис о неизбежном истощении ресурсной базы в условиях коллективного нерегулируемого доступа ресурсополъзователей к общинным ресурсам иллюстрируется на примере поземельных споров сибирских крестьян начала прошлого века относительно «лугов», «пашен», «речек» и прочих угодий. Варианты, позволяющие избежать «втягивания в “трагедию общинных ресурсов ”», описаны на основе содержащихся в отчетах сведений, связанных с отказом местных сообществ от ежегодных переделов покосных наделов, а также введением штрафов за порубку деревьев, растущих в непосредственной близости от деревни. Результаты проведенного анализа сопоставлены с ситуациями, для объяснения которых используется парадигма «ресурсного проклятия». Делается вывод, что способы решения ресурсных конфликтов (несмотря на выявленные различия в предметах и участниках спора) и в том, и в другом случае лежат на пути повышения роли местных сообществ.
Этноэкологическая адаптация, ресурсные конфликты, антропологические теории, ресурсное проклятие, трагедия общинных ресурсов, сельское население южной сибири
Короткий адрес: https://sciup.org/145145669
IDR: 145145669 | УДК: 504.3 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.764-769
Текст научной статьи Ресурсные конфликты сквозь призму антропологических теорий: "ресурсное проклятие" и "трагедия общинных ресурсов"
Процессы экологической адаптации этносоциальных сообществ к постоянно меняющимся условиям среды обитания неизбежно порождают спорные ситуации и конфликты, связанные с эксплуатацией природных ресурсов. Характер подобных конфликтов, а также состав их участников могут существенно различаться на разных этапах этнической истории, принимая форму открытых столкновений в периоды завоевания новых территорий или скрытого противостояния на стадии обживания уже «покоренных» пространств (см., напр.: [Лысенко, 2016, с. 10–11]).
Рассмотрим наиболее популярные концепты, используемые в научной литературе для описания ресурсных конфликтов, а также возможно сть их применения для анализа этноэкологической истории различных групп сельского населения Южной Сибири.
В 1970–1980-е гг. широкое распространение в зарубежной антропологии получила теория Г. Хардина, согласно которой коллективный нерегулируемый до ступ представителей местного сообщества к общинным ресурсам (например, пастбищу) рано или поздно приводит к полному истощению ресурсной базы (вследствие перевы-паса и неизбежной деградации пастбищных земель), а в перспективе – к краху соответствующих отраслей хозяйства и самого сообщества. Описанная коллизия, за которой в научной литературе закрепилось название трагедии общинных ресурсов или ресурсов общего пользования (tragedy of the commons), была отнесена автором к категории проблем, «не имеющих технического решения». Подобного рода проблемы, пишет Г. Хардин, невозможно решить «исключительно техническими средствами», опираясь только на методы естественных наук и не затрагивая сферы человеческих ценностей и вопросов морали [Hardin, 1968, p. 1243].
Действительно, каждый общинник, по мнению автора, стремится использовать общинное пастбище с максимальной для себя выгодой. Задаваясь вопросом о том, что будет, если его стадо увеличится на одну корову, рационально мыслящий скотовод должен прийти к выводу, что позитивные последствия в данном случае перевесят негативные, т.к. вся прибыль от продажи дополнительного животного достанется ему, а издержки от возросшей нагрузки на пастбище равномерно распределятся между остальными членами общины. Таким образом, единственно разумным поведением для него будет наращивание поголовья собственного стада. Но точно к такому же выводу приходят и другие общинники. Именно в этом, считает Г. Хардин, и заключается трагедия, поскольку все члены общины, действующие в собственных интересах, вовлечены в систему, побуждающую их к неограниченному увеличению численности своего стада. Свободное пользование общими ресурсами, т.е. «объективная логика эксплуатации ресурсов общего пользования», в условиях ограниченности этих ресурсов оборачивается всеобщим разорением [Ibid., p. 1244].
Материалы, иллюстрирующие данную теорию, можно обнаружить в архивных документах периода Столыпинской аграрной реформы. Содержащиеся в отчетах землеустроительных партий сведения позволяют восстановить механизмы освоения и обживания сибирских степных и лесостепных ландшафтов сибиряками-старожилами и российскими переселенцами в конце XIX – начале XX в.
Анализ перечисленных в документах экото-пов (наименьших единиц ландшафта) показал, что все окрестные гривы, лога, лощины, согры, елани и прочие компоненты природного окружения рассматривались крестьянами прежде всего с точки зрения их ценности (возможной пользы) в крестьянском хозяйстве, а именно – как потенциальные пашни, сенокосы и пастбища. Выяснилось также, что местные крестьянские сообщества первых десятилетий XX в., обозначенные в документах (по названию соответствующих селений, расположенных в Чингинской вол. Барнаульского у. Томской губ.) как «бедринцы» , «артамонов-цы» , «заковряшинцы» и пр., пребывали в состоянии перманентных поземельных споров друг с другом из-за «лужков» , «пашен» , «речек» и прочих угодий. Так, «битковцы» много лет вели спор с «ар-тамоновцами» «из-за лужка… между (реками) Че-ремшанкой и Глинчихой, копен на 50» . «Бедринцы» долгое время безуспешно пытались «отшить от грани» «заковряшинцев» , постоянно переходивших границы владений своими пашнями. «Ерестинцы» обвиняли жителей д. Маюрово «в захвате пахотных земель» . Предметом спора «мышлановцев»
и «шайдуровцев» являлась «речка Поганка» , которую одни считали границей своих угодий, а другие, напротив, частью их общины [Любимова, 2017, с. 30]. Отметим, что аналогичные конфликты в европейской части страны могли также развиваться на уровне помещичьих хозяйств – в истории русской литературы подобная ситуация, описанная А.П. Чеховым в пьесе «Предложение», известна как «спор о воловьих лужках» (между помещиками Чубуковым и Ломовым) [Ларионова, 2012, с. 126].
Весьма показательным в контексте концепции Г. Хардина является нашедший отражение в землеустроительных отчетах многолетний спор между жителями деревень Ерестной и Маюрово. В прежние времена, говорится в документах, к Каракан-скому бору примыкала «темная непроходимая дуброва» , часть которой входила в дачу д. Ерестной. Пахотных мест в ней почти не было, но «поляны представлялись вполне пригодными для сенокошения» . По соглашению с другими обществами «ере-стинцы могли пахать в дачах (соседних) деревень» , тогда как их жителям дозволялось «косить на прогалинах в ерестинской дуброве» . Постепенно, как констатируют авторы, «дуброва… вырубалась, выжигалась и уничтожалась другими способами» , пока не «приобрела свой теперешний вид, а вместе с тем – удобные уже для распашки места, которые и начали захватывать… крестьяне других деревень» . Так, «маюровцы» «зашли пашнями… (в) бывшие свои сенокосы в дуброве» . Волостной суд «постановил (принять) решение в пользу крестьян д. Ерестной… присудив взыскать (с маю-ровцев) 20 рублей» . Однако те «до сих пор… не прекратили своих захватов и не уплатили ерестинцам присужденных с них денег» [Любимова, 2017, с. 30– 31]. Таким образом, несмотря на имевшееся между крестьянскими обществами соглашение, слабо регулируемое коллективное пользование сенокосными угодьями привело, как видим, к полному уничтожению такого ценного общинного ресурса, как дуброва («сплошное боровое место» ).
Наряду с ограниченностью (исчерпаемостью) самого ресурса – при сохранении коллективного нерегулируемого доступа к нему – предпосылкой подобного развития событий, подчеркивает А.Н. Ямсков, является переход местных сообществ к рыночным отношениям, нередко сопровождаемый радикальными трансформациями в технологиях природопользования, системах расселения и прочими новациями [Ямсков, 2012, с. 236–237]. Вместе с тем, как было отмечено уже Г. Хардином, проблема неизбежного истощения или полного уничтожения ресурсов общего пользования, которую невозможно решить «исключительно техническими средствами», вполне поддается решению 766
с помощью иных технологий. Деградация зон общего пользования, пишет автор, может происходить не только тогда, когда мы «забираем (из них) ресурсы», но и тогда, когда «мы привносим (в них) что-то (еще)» посредством отравления воды, атмосферы или порчи открывающихся перед путешественниками видов «отвлекающими внимание… рекламными щитами». И если в первом случае, т.е. в том, что касается «продуктовой корзины» (tragedy of the commons as a food basket), избежать трагедии позволяет «частная собственность или некое ее формальное подобие» (огораживание сельскохозяйственных земель, ограничение доступа к пастбищам, а также охотничьим, рыболовным и прочим угодьям), то во втором – поскольку воду и воздух «огородить» нельзя – предотвратить превращение ресурсов общего пользования в «сточную канаву» (tragedy of the commons as a cesspool) можно с помощью принудительных законодательных мер и налоговых инструментов, которые сделали бы утилизацию отходов более дешевой, чем загрязнение окружающей среды [Hardin, 1968, p. 1245, 1248]. По сути, уточняет А.Н. Ямсков, речь идет либо о разделе общего ресурса между пользователями (т.е. своего рода его приватизации), либо о введении особых ограничений (максимально допустимых норм нагрузки) на его эксплуатацию [Ямсков, 2012, с. 237, 241].
Оба этих варианта, позволяющие местным сообществам «избежать втягивания в “трагедию общинных ресурсов”» [Там же, с. 236], нашли отражение в землеустроительных документах периода Столыпинской аграрной реформы. Судебные разбирательства (как в случае поземельного спора «ере-стинцев» и «маюровцев») парадоксальным образом содействовали развитию отношений собственности, а также распространению экологических, по сути, тенденций, связанных со стремлением крестьян к рациональному природопользованию. Одна из таких мер была связана с отказом от ежегодных переделов внутриобщинных покосных паев. В отличие от пахотных земель, пользование которыми было «вольное», т.е. «без деления… на душевые пайки», все сенокосные угодья сибирских крестьян были «поделены по душам». Лучшие сенокосные паи – расположенные по рекам и низинам покосы – переходили от отца к сыну и назывались «родчими» или «коренными». Однако в силу постоянного возрастания числа душ далеко не все могли рассчитывать на такой пай и довольствовались лишь паями из пустошей. Ежегодная «делянка покосов», согласно обычному праву, производилась «всем обществом… глазомерно», а сенокосный участок оставался за тем хозяином, который заявлял на него «большее количество душ». Со временем, как следует из отчетов, переделы участков происходили все реже. Отмечая невыгодность ежегодных переделов, отнимающих у общинников до четырех рабочих дней, составители документов обращают внимание на то, что «при более продолжительном пользовании наблюдается более бережливое отношение к сенокосам». Ссылаясь на опыт крестьян д. Урюпиной, которые поделили между собой сенокосы сроком на десять лет (т.е. ввели то самое «формальное подобие частной собственности», о котором писал Г. Хардин), авторы приводят дополнительные аргументы в пользу «продолжительного пользования сенокосными полями» – ср.: «при более продолжительном пользовании, – читаем в документе, – домохозяева лучше относятся к своим покосам, и наоборот, при менее продолжительном – небрежность является характерным признаком их отношения, а это, конечно, не может не отражаться дурно на качестве покосов» [Любимова, 2017, с. 31].
Другой мерой, призванной предотвратить истощение общинных ресурсов, стало введение штрафов за порубку деревьев, растущих в пределах поскотины (прилегающих к деревне огороженных пастбищ, за которыми начинались поля). Так, еще в 1900 г. жители д. Заковряшиной «постановили приговор, воспрещающий рубить в поскотине лес…» , за нарушение которого полагался «штраф в размере 25 коп.» . Похожие приговоры на пять, десять лет или с пометкой «срок… не определен» были приняты и в других селениях. Как сказано в одном из отчетов, раньше из этого ничего не выходило, поскольку «только лес начинал поправляться, его сейчас же… “порубали”. Теперь (же), – с удовлетворением замечает составитель документа, – лес выравнивается очень недурно» [Там же, с. 32].
Приватизация покосных участков и нормирование лесных порубок уже в первые десятилетия прошлого века показали свою эффективность в борьбе с деградацией ресурсов общего пользования. Длительное совместное проживание и постоянная коммуникация ресурсопользователей с природой и друг с другом, включающая налаживание горизонтальных связей и формирование гибкой сети нормативных зависимостей, пишет в этой связи А.А. Сычев, обеспечивают возможность для выработки общих норм поведения, касающихся использования природных ресурсов и состояния окружающей среды. Именно поэтому, считает автор, важнейшим условием эффективного управления экоресурсами является увеличение роли локальных общин, изучение их опыта, а также сохранение этнических традиций и ценностей [Сычев, 2015, с. 740–741].
В то же время применительно к современной ситуации для описания ресурсных конфликтов го- раздо чаще используется такой концепт, как «ресурсное проклятие» (resource curse) или парадокс изобилия (paradox of plenty). Особенно часто данная парадигма используется в рамках антропологии экстрактивизма для объяснения конфликтов, возникающих между добывающими компаниями и местным (как правило, аборигенным) населением [Бородулина, 2019, с. 180]. Введенный зарубежными экономистами в конце 1990-х гг. для объяснения падения уровня жизни в ряде стран-экспортеров нефти термин служил указанием на выявленную зависимость между темпами роста ресурсоизбыточных стран и качеством их политических и экономических институтов. При этом изначально в российском академическом дискурсе возобладало скептическое отношение к концепции, резко усилившееся после выхода книги, в названии которой фигурировало выражение «сибирское проклятие» (siberian curse) [Hill, Gaddy, 2003], несмотря на то, что в русском переводе был использован более мягкий вариант – «сибирское бремя» [Хилл, Гэдди, 2007]. Будучи метафорой неэффективного освоения природных ресурсов Сибири в советское время, данное выражение тем не менее стало поводом для обвинений авторов книги в «попытках развалить страну» [Там же, с. 7]. В современных исследованиях, напротив, наблюдается расширительное толкование феномена, когда практически любой ресурсный конфликт трактуется как вариант ресурсного проклятия.
Оценка границ применения данной концепции показала, что главные ее выводы могут быть экстраполированы на более ранние этапы сибирской истории, охватывая как минерально-сырьевые (невозобновимые), так и биосферные (возобновимые) ресурсы, в т.ч. плодородие почв, а также ресурсы растительного и животного мира. Кроме того, была отмечена характерная особенность этно-экологической истории региона, согласно которой обилие природных ресурсов Сибири (например, наличие на ранних этапах освоения края практически неограниченного фонда «пригодных для хлебопашества земель») неоднократно становилось решающим фактором в пользу экстенсивного развития не только сельскохозяйственного, но и промышленного производства, замедляя переход к интенсивным способам ведения хозяйства [Любимова, 2010, с. 397–398].
Типичный конфликт, для описания которого применима парадигма ресурсного проклятия, характеризуется отсутствием у ме стных жителей возможностей конвертировать потенциальные преимущества, связанные с наличием ценных территориальных ресурсов, в реальные показатели роста экономического благосостояния. Изучение таких конфликтов обычно сфокусировано на действиях технологически оснащенных добывающих компаний, выступающих в роли внешней по отношению к местному населению силы. По этой причине авторы исследования одного из самых резонансных ресурсных конфликтов сибирского региона (между коренным малочисленным народом шорцев и угольными компаниями Кузбасса) сосредоточили свое внимание на опыте наиболее уязвимых и социально незащищенных участников, представив описание произошедшей в шорских сообществах утраты привычного жизненного мира – «освоенного и эмоционально ценного пространства» – в терминах проживания и преодоления травмы [Подду-биков, Арцемович, Функ, 2018, с. 153–154]. Вместе с тем уязвимой стороной подобных конфликтов нередко становятся не только сообщества коренных малочисленных народов, но и социально незащищенные группы доминирующего большинства, что показали недавно прошедшие во многих регионах акции против строительства мусорных полигонов.
Характерным примером нетипичного ресурсного конфликта могут служить стихийно сложившиеся практики организации коммерческого туризма в районе Каракольских и Мультинских озер Горного Алтая (Чемальский и Усть-Коксинский р-ны Республики Алтай). Предметом конкуренции в данном случае выступает местный ландшафт (особый вид возобновимых природных ресурсов, согласно современной классификации) с его исключительными эколого-эстетическими свойствами. Средством монопольного распоряжения этим ресурсом, а также конкурентного противостояния туристическим фирмам (руководители которых нередко проживают в других регионах) служит крайне неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры, которое намеренно поддерживается водителями-проводниками из числа местного населения (ПМА, 2016; 2020). В отличие от сходных, на первый взгляд, случаев пространственной изоляции труднодоступных сельских поселений, жители которых отрицательно относятся к потенциальному строительству дороги, полагая, что она лишит их возможности безраздельно и бесконтрольно пользоваться окружающими природными ресурсами [Позаненко, 2017, с. 249–251], местное население в описанной ситуации ориентировано на активное участие в рыночных отношениях. Произошедшая в данном случае инверсия ролей, свойственных участникам типичных ресурсных конфликтов, позволила местным жителям преодолеть стигму страдающей стороны и начать самим диктовать условия на рынке туристических услуг.
Представленные материалы показали, что разработанные в рамках теоретической антропологии 768
концепты – «трагедия общинных ресурсов» и «ресурсное проклятие» – вполне могут применяться при анализе этноэкологической истории сибирского региона. В первом случае в роли субъектов спора выступают представители местных общин, тогда как предметом спора обычно служат ресурсы растительного и животного мира. Во втором случае ведущей стороной конфликта, как правило, является техниче ски оснащенная добывающая компания, выступающая в качестве внешней по отношению к местному сообществу силы. Само же местное население оказывается наиболее уязвимой и незащищенной стороной, несущей основную тяжесть инфраструктурных дисбалансов и экологических издержек вследствие несправедливого распределения ресурсной ренты от добычи ископаемого минерального сырья. Решение ресурсных конфликтов в том и другом случае, как следует из приведенных примеров, связано с повышением роли местных сообществ.
Работа выполнена по проекту НИР № 0329-20190006 «Символ и знак в культуре народов Сибири XVII– XXI вв.: актуализация и стратегии сохранения».
Список литературы Ресурсные конфликты сквозь призму антропологических теорий: "ресурсное проклятие" и "трагедия общинных ресурсов"
- Бородулина А. С. Экстрактивизм и сопротивление // Сибирские исторические исследования. - 2019. - № 3. -C. 180-185.
- Ларионова М.Ч. "Воловьи лужки": традиционные культурные коды в водевиле А.П. Чехова "Предложение" // Традиционная культура. - 2012. - № 2 (46). -С. 122-129.
- Лысенко Ю.А. Проблема землеустройства Семиреченского казачьего войска сквозь призму этносоциального ресурсного конфликта (вторая половина XIX - начало XX в.) // Востоковедные исследования на Алтае. - 2016. -Вып. 10. - С. 9-12.
- Любимова Г.В. Феномен "ресурсного проклятия" в этноэкологической истории сибирского региона // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2010. - Т. XVI. - С. 397-400.
- Любимова Г.В. Отчеты землеустроительных партий как источник по экологической истории и культурному ландшафтоведению Сибири // Вести. Сургут. гос. пед. ун-та. - 2017. - № 6 (51). - С. 26-33.
- Поддубиков В.В., Арцемович С.А., Функ Д.А. "Ресурсное проклятие" с антрацитовым отблеском: коренные народы и добывающие компании Кузбасса в ситуации конфликта // Сибирские исторические исследования. - 2018. - № 2. - C. 142-163.
- Позаненко А.А. Пространственная изоляция и устойчивость локальных сообществ: к развитию существующих подходов // Вести. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. - 2017. - № 40. - С. 244-255.
- Сычев А.А. Этико-экологические измерения проблемы общинных ресурсов // Изв. Самар. науч. центра Рос. акад. наук. - 2015. - Т. 17, № 1 (3). - С. 737-741.
- Хилл Ф., Гэдди К. Сибирское бремя. Просчеты советского планирования и будущее России / пер. с ант. - М.: Науч.-обр. форум по междунар. отношениям, 2007. - 328 с.
- Ямсков А.Н. Дефиниция и этноэкологические аспекты феномена "трагедии общинных ресурсов" // Этнос и среда обитания. - М.: ИЭА РАН, 2012. - Вып. 3. -С. 231-247.
- Hardin G. The Tragedy of the Commons // Science. -1968. - Vol. 162, N 3859. - P 1243-1248.
- Hill F., Gaddy C.G. The Siberian Curse. How Communist Planners Left Russia Out in the Cold. - Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2003. - 240 p.