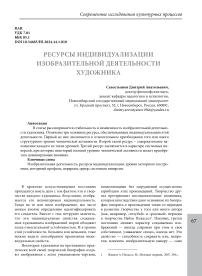Ресурсы индивидуализации изобразительной деятельности художника
Автор: Севостьянов Д.А.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Современные исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается стабильность и изменчивость изобразительной деятельности художника. Отмечены три основных ресурса, обеспечивающих индивидуализацию этой деятельности. Первый из них заключается в относительном преобладании того или иного структурного уровня человеческой активности. Второй такой ресурс - содержательное наполнение каждого из таких уровней. Третий ресурс заключается в характере системных инверсий, при которых некоторый низший уровень человеческой активности может приобретать доминирующее значение.
Изобразительная деятельность, ресурсы индивидуализации, уровни моторного построения, моторный профиль, иерархия, ордер, системная инверсия
Короткий адрес: https://sciup.org/170205822
IDR: 170205822 | УДК: 7.01 | DOI: 10.34685/HI.2024.44.1.010
Текст научной статьи Ресурсы индивидуализации изобразительной деятельности художника
В практике искусствоведения постоянно приходится иметь дело с тем фактом, что в творчестве каждого художника, безусловно, отображается его неповторимая индивидуальность. Глядя на то или иное изображение, мы часто можем вполне определенно идентифицировать его создателя. Вместе с тем, нетрудно заметить, что эти индивидуальные свойства создаваемых художником изображений порой обладают лишь относительной устойчивостью. И в уровне этой устойчивости, большем или меньшем, тоже можно видеть своеобразное проявление индивидуальных свойств.
Некоторые художники на протяжении практически всей своей творческой биографии создают изображения с легко узнаваемыми чертами, позволяющими без затруднений осуществлять атрибуцию этих произведений. Творчество других претерпевает последовательные изменения, которые впоследствии дают основание их биографам говорить о прохождении таких-то периодов в развитии творчества у того или иного автора (как, например, «голубой» и «розовый» периоды в творчестве Пабло Пикассо)1. Наконец, третьи постоянно меняют характер создаваемых изображений — иногда сохраняя при этом и свое собственное, узнаваемое «лицо», иногда нет. Это свойство — способность сохранять или, напротив, изменять изобразительную манеру — само по себе представляет весьма важный и актуальный предмет для изучения.
Данного вопроса приходится касаться при многих направлениях искусствоведческих исследований. Затрагиваем ли мы классификацию изобразительного искусства, интересуют ли нас закономерности формирования образных систем и языка искусств, вникаем ли мы в характеристики современного художественного процесса, изучаем ли вопросы его динамики — во всех этих случаях нам приходится иметь дело с изображениями, несущими в себе отпечаток индивидуальности их создателя, и реальные источники этой индивидуальности не могут остаться за пределами нашего исследловательского внимания. А уж при изучении авангардного и модернистского искусства, начиная с конца XIX столетия, и при анализе постмодернистских тенденций, с которыми приходится иметь дело в настоящее время, игнорирование такой проблематики становится просто невозможным, если мы хотим, чтобы наши искусствоведческие изыскания не носили лишь формальный характер и действительно были плодотворными (далее будет приведен ряд примеров, наглядно иллюстрирующих это положение).
Однако природа рассматриваемого предмета такова, что, по-видимому, невозможно сколько-нибудь полно ее изучить, оставаясь в рамках исключительно искусствоведческого категориального аппарата. Здесь необходим междисциплинарный подход, требующий основательного экскурса, в частности, в изучение системы человеческой активности, что относится к ведению психофизиологии; здесь же требуется обратиться к некоторым закономерностям системного функционирования, которые затрагивают предметную область философии и общей теории систем. Такое расширение понятийного поля отнюдь не означает, что мы при этом покидаем предметную область искусствоведения и переселяемся, скажем, в психологическую или психофизиологическую сферу. Следует помнить, что фактическим предметом исследования здесь остается изобразительное искусство, представленное в его реальном многообразии и в поступательном развитии. Чтобы убедиться в этом, следует вернуться к искусствоведческой практике, вооружившись познавательными методами, заимствованными из других научных дисциплин. В отрыве же от индивидуальных свойств личности художника, находящих материальное выражение (опредмечивание)
в произведении искусства, никакое искусство (и никакое искусствоведческое знание) не может существовать.
Индивидуальность изобразительной деятельности имеет несколько основных источников. Для того чтобы раскрыть их, необходимо принять подход, согласно которому любое изображение, созданное художником (в живописи ли, в графике) представляет собой совокупность следов его движений, запечатленных на изобразительной поверхности. Таким образом, любое художественное изображение предстает как результат определенного (весьма сложного) двигательного акта. Исключение составляют картины, создаваемые с применением технических средств — фотографическим путем, посредством компьютерной графики, а также и с помощью нейросетей; они составляют отдельную категорию арт-объектов и далее здесь обсуждаться не будут.
В отношении изобразительной моторики (и человеческой моторики в целом) наиболее проработанную концепцию представил в середине прошлого века выдающийся отечественный психофизиолог Н.А. Бернштейн2. Согласно этой концепции, вся система человеческой активности подразделяется на ряд иерархически соподчиненных уровней, каждый из которых объединяет в себе совокупность движений сопоставимой степени сложности. Каждый такой уровень опирается на некоторый анатомо-функциональный аппарат в нервной системе человека и обладает собственным содержанием, которое может сильно отличаться у разных людей.
Рассмотрим данные уровни в максимальном упрощении. Низший из этих уровней, самый примитивный — тонический; он обеспечивает в изобразительной деятельности тонус рисующей руки и проявляется в нажиме при рисовании, а также, например, в непроизвольных отклонениях изображенных фигур от вертикали. Второй уровень — синергический; в изобразительной деятельности содержание этого уровня проявляется в выразительных свойствах протяженных изобразительных элементов, таких как линия или мазок. Третий уровень (уровень пространственного поля) в изобразительной деятельности отвечает за композиционное размещение изобра- жения в условном пространстве изобразительной поверхности, а также за видимое сходство изображенного с изображаемым. Четвертый уровень (уровень предметных действий) реализует деятельность с орудиями труда, что проявляется в том числе и в изобразительной деятельности, а кроме того, он обеспечивает возможность изображать фигуры определенных топологических классов, при этом упрощая эти изображения до уровня схемы или же не делая этого. Наконец, высший уровень — символический, в ведении которого находятся символические операции. Символы, которыми оперирует данный уровень, представляют собой объекты, наделенные собственным бытием (реальным либо воображаемым), а кроме того, получившие некоторое особое значение3. Эти объекты (или образы их) исполняют функции означающего при некотором означающем. Содержание данного уровня составляется из усвоенных в течение жизни символов, и если художник, сохраняя в неприкосновенности свою изобразительную манеру, обращается в своем творчестве к новой тематике, то это значит, что изменения в его работе затрагивают один только символический уровень активности. Таким образом, система активности человека (рассматриваемая здесь в широком смысле) охватывает и низшие, и высшие моторики, и даже мысленные операции, которые обычно к сфере моторики как таковой вовсе не относят.
Важно, однако, то, что какой-либо из этих уровней может развиться в большей (или в меньшей) мере, чем другие (выше- и нижележащие). Это зависит от задатков данного субъекта, а также от его прижизненного моторного опыта. Н.А. Бернштейн указывал, что у разных людей могут возникать индивидуальные (сильно различающиеся) моторные профили. Существование этих профилей доказано в практических ис-следованиях4. Наличие определенного моторного профиля подразумевает, что данный конкретный субъект будет показывать хорошую способность к совершению некоторых двигательных актов (он может быть просто талантлив в этом), но другие движения, относящиеся к менее развитым у него моторным уровням, будут вызывать у такого человека затруднения.
Как можно видеть из вышеизложенного, автор этой статьи предлагает опираться на концепцию Н.А. Бернштейна при оценке индивидуальности художника и конкретных ее проявлений. Однако эта концепция, при всей ее безусловной значимости, нуждаются ныне в существенной доработке.
Дело в том, что в сложных иерархических системах (и в системе человеческой активности) действуют некоторые присущие им всем общесистемные закономерности; в частности, это способность подобных систем к формированию инверсивных отношений, или системных инверсий. Системная инверсия представляет собой такую форму отношений в иерархии, при которой некоторый низший, подчиненный элемент приобретает в ней доминирующую роль, оставаясь формально на своей прежней подчиненной иерархической позиции. Ситуация же, когда инверсии отсутствуют и система сохраняет свои прежние, базовые отношения, обозначается как отношения ордера5.
В системе человеческой активности при отношениях ордера высший моторный уровень, задействованный в том или ином двигательном акте, обычно является осознаваемым; работа низших, подчиненных уровней осуществляется при этом за пределами актуального сознания. Поскольку в изобразительной деятельности задействованы все без исключения моторные уровни, то осознаваемым в процессе деятельности художника (при сохранении отношений ордера) остается символический уровень, низшие же уровни несут служебные, исполнительные функции. Иной ситуации классическая теория Н.А. Бернштейна не предусматривала. Но вот в иерархии человеческой активности возникают системные инверсии, и низший, подчиненный моторный уровень временно становится главным, а высшие уровни лишь обслуживают его. Именно это можно нередко наблюдать, в частности, в изобразительной деятельности человека; и именно здесь наличие системных инверсий становится наиболее наглядным. Это обусловлено уникальными свойствами самой изобразительной моторики. Другие моторные акты, будучи совершены, могут и не оставлять видимых следов; однако изобразительная деятельность как раз и нацелена на то, чтобы оставлять такие следы на плоскости, и в этом смысле она отображает сама себя (или, вернее сказать, относится к само-регистрирующимся моторикам).
В чем проявляются системные инверсии в изобразительной деятельности человека? Они, в частности, реализуются в рамках того или иного художественного направления. Так, например, у гиперреалистов на первое место выходит воссоздание полного сходства изображенного с изображаемым, вплоть до формирования оптической иллюзии; здесь высшую позицию занимает уровень пространственного поля, ответственный за буквальное сходство, а символический уровень лишь поставляет материал для него. В экспрессионизме доминирующая позиция достается выразительным свойствам протяженных изобразительных элементов (линий, мазков), а следовательно, главенствует синергический уровень. В живописи импрессионистов уровень пространственного поля делит лидирующие позиции с синергическим уровнем (причем то один, то другой выходят на первый план), а вышележащие уровни вынуждены подстраиваться под эти низшие моторики и обеспечивать их функционирование.
Таким образом, в системе активности человека проявляется, минимум, три более или менее самостоятельных ресурса индивидуализации, которые наиболее ярко и наглядно проявляются в изобразительной деятельности. Это, во-первых, относительно бóльшая или меньшая степень развития тех или иных моторных уровней (а также степень общего развития моторики в целом) — то есть индивидуальный моторный профиль субъекта. Это, во-вторых, содержание каждого моторного уровня, которое определяется тем конкретным набором и характером двигательных (изобразительных) актов, что освоил в течение своей жизни именно данный субъект. Это, в-третьих, наличие и характер системных инверсий в деятельности субъекта. Для художника эти инверсии в основном определяются характеристикой его художественной школы или направления в живописи, в рамках которого данный субъ- ект осуществляет свое творчество.
Рассмотрим теперь, как описанные выше факторы проявляются в изобразительной практике. Картина при этом вырисовывается, безусловно, весьма многосторонняя.
В том, что изображения, созданные данным художником, носят (исходя из манеры исполнения) в определенной степени однотипный характер, прослеживается ряд выгодных для художника моментов. Его работы приобретают узнаваемое «лицо», и это, как уже говорилось, облегчает их атрибуцию. Являясь, так или иначе, активным участником рынка художественных произведений, художник, выражаясь современным языком, представляет свое имя в виде определенного бренда, и этому бренду так или иначе приходится приобретать и сохранять за собою ряд отличительных характеристик, присущих именно ему — но никому другому не свойственных. Если работам, выставленным данным художником на продажу, можно отыскать известное множество близких аналогов, принадлежащих другим авторам, самостоятельная ценность таких работ существенным образом снижается. В современном мире существенно изменились актуальные функции искусства; одной из ведущих ныне может считаться индивидуализирующая функция. Художник, представляя свое произведение, тем самым делает заявку на то, что именно так, как он, сделать данное изображение не может и не мог бы никто другой. С другой стороны, как говорится, сделав себе имя, художник может отныне пускаться в любые изобразительные эксперименты, прекрасно понимая, что успех его произведениям все равно уже гарантирован.
При анализе современного искусства часто возникает вопрос: играет ли при формировании индивидуальной изобразительной манеры того или иного художника какую-либо роль подражание? Безусловно, это так. В современном мире, когда доступность любой (и визуальной тоже) информации приобрела неслыханный размах, для подражательных действий в данной области открывается поистине безбрежный простор. Кроме того, уже достигнутое разнообразие изобразительных техник и сочетаний моторных уровней в изобразительной деятельности приобрело такие масштабы, что создать нечто оригинальное, не схожее с чем-либо ранее созданным — задача поистине нетривиальная. Вполне возможно случайное сходство с работами предшественников. Однако и при- меры реальных подражательных действий, конечно, также встречаются. Так, картины Александра Давидовича Альховского (р. 1947), представленные в музее современного искусства «Эрарта» («Бесы и город мутантов» (2012–2018), «Метаморфозы» (2016) и «Разговор на крыше» (2016)) весьма сильно напоминают работы П.Н. Филонова. Если бы была возможность исключить подражание и считать использованную здесь манеру самостоятельной творческой находкой, то совпадение получилось бы поистине удивительное. Другие же работы А.Д. Альховского никакого сходства с картинами П.Н. Филонова не обнаруживают, хотя и в них весьма сильно представлена выразительная роль низших моторик.
В работах Миши Шаевича Брусиловского (1931–2016) можно видеть многократные изменения изобразительной манеры, поэтому по какой-либо одной картине (или даже по нескольким картинам) составить сколько-нибудь адекватное представление о его творчестве, по-видимому, вообще невозможно. В его произведениях, созданных в разные годы, можно прочесть влияние многих именитых предшественников. Если в его картине «Бегство в Египет» (1985) видно явственное влияние все того же Павла Филонова, то в других его работах можно выявить сходство с работами Пикассо периода его увлечения кубизмом («Леда и лебедь», 2000). Примечательно, что в другой работе на эту же тему, написанной 26 годами ранее («Леда», 1974), говорить о таком сходстве совершенно не приходится, скорее здесь можно увидеть аллюзию к картинам более позднего периода творчества Пикассо (например, «Две женщины, бегущие по пляжу», 1922). Зато уместно отметить и известную общность работ, написанных примерно в то же время, в тот же период биографии Брусиловского (такова же, например, «Красная шапочка», 1973). И там, и здесь изобразительное начало (действие уровня пространственного поля) приносится в жертву выразительности, но делается это решительно везде по-разному. В работах Дмитрия Александровича Кустановича (р. 1970), известного современного художника, в основном встречаются весьма сильные выразительные проявления низших моторик (энергичные мазки, обладающие, несомненно, особым эмоциональным воздействием на зрителя), но среди его работ можно (даже с некоторым удивлением) обнаружить и такие, в которых (вероятно, под каким-либо внешним влиянием) все следы таких моторик старательно затерты, ликвидированы автором. В целом, отдельные произведения, конечно, могут создаваться именно в результате подражания. Однако строить на подражании всю свою изобразительную деятельность, если она при этом не будет соответствовать собственному моторному профилю художника — едва ли возможно.
Итак, следует сформулировать некоторые общие принципы, которых, исходя из результатов данного исследования, целесообразно придерживаться при изучении изобразительной манеры художника.
-
1. Среди ресурсов индивидуализации изобразительной манеры художника следует выделить моторный профиль, то есть индивидуальное соотношение иерархических уровней изобразительной моторики; при его идентификации и оценке необходимо обращаться, в частности, к концепциии уровней моторного построения Н.А. Бернштейна, которая, несмотря на свою относительную давность, вовсе не утратила актуальности и поныне.
-
2. Вторым значимым ресурсом индивидуализации изобразительной деятельности является содержательное наполнение этих моторных уровней, которое формируется непосредственным моторным (изобразительным) опытом субъекта.
-
3. Третий такой ресурс состоит в наличии и степени развития системных инверсий в структуре моторики данного субъекта (что у художника определяется его принадлежностью к определенной художественной школе).
-
4. Наконец, в качестве еще одного такого ресурса нельзя не указать сознательное изменение изобразительной манеры, которое осуществляется как результат подражания (аллюзий к творчеству других художников), а также под воздействием некоторых ситуативных факторов, которые порой побуждают художника создавать некоторые изображения в манере, ему изначально не свойственной.
-
5. Таким образом, представленный выше теоретический и практический материал позволяет составить представление о том, каким образом индивидуальные характеристики художника реализуются (претерпевают опредмечивание) в процессе создания изображений. Знания об этом способствуют упорядочению искусствоведческого исследования, что особенно важно применительно к нынешней ситуации в изобразительном
искусстве. Как уже говорилось, сейчас разнообразие реализуемых художественных практик, по-видимому, поистине достигло своего предела, и для анализа этого многообразия требуется опираться на определенные классификационные критерии, овладеть которыми и позволяет использование междисциплинарного подхода.
Список литературы Ресурсы индивидуализации изобразительной деятельности художника
- Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. М.: Наука, 1990. 494 с.
- Жидель А. Пикассо. М.: Молодая гвардия, 2007. 304 с.
- Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1995. 320 с.
- Коренкова Н.Е., Олейник Ю.Н. Психомоторика в структуре интегральной индивидуальности человека // Психологический журнал. 2006. Т. 27, № 1. С. 54-66. EDN: HTEZPJ
- Коренкова Н.Е. Разработка проблемы психомоторики на кафедре общей психологии и истории психологии Московского гуманитарного университета // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2018. № 1. С. 4. EDN: YSTKPC
- Севостьянов Д.А. Противоречие и инверсия. Новосибирск: Золотой колос, 2015. 245 с.