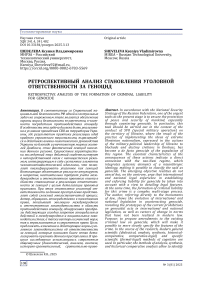Ретроспективный анализ становления уголовной ответственности за геноцид
Автор: Шевелева К.В.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 3 (81), 2025 года.
Бесплатный доступ
В соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ одной из актуальных задач на современном этапе является обеспечение охраны мира и безопасности человечества, в частности посредством противодействия геноциду. В особенности эта задача должна быть реализована в условиях проведения СВО на территории Украины, где результатом практики реализации идей крайнего украинского национализма, выразившейся в действиях военно-политического руководства Украины по блокаде и уничтожению мирных жителей Донбасса, стал фактический геноцид населения данного региона. Сущностные характеристики последствий этих действий свидетельствуют о непосредственной связи с неонацистским режимом, интегрирующим в себе системные элементы человеконенавистнической идеологии, что позволяет квалифицировать указанное как геноцид. Возникающие объективные реалии не аннулируют, а напротив, настоятельно требуют учета международного и отечественного правового опыта в области становления и реализации ответственности за геноцид с целью детализации правовых признаков. При этом становление уголовной ответственности за данное преступление представляет собой сложный многоступенчатый процесс. Автор, обращаясь непосредственно к памятникам права, показывает эволюцию международного и отечественного законодательства в области противодействия геноциду, обнаруживая прообразы действующих сегодня запретов геноцидальных действий в международном и национальном законодательствах, а также векторы изменений норм, так и нереализованных в современном праве. Цель: предложить изменения в действующие нормы уголовного законодательства об ответственности за геноцид, которые позволят более четко детализировать признаки данного преступления. В процессе исследования использовались современные общенаучные (диалектический, анализа, синтеза, историко-сравнительный, сравнительно-правовой) и частнонаучные (формально-юридический) методы познания. В частности, методы анализа, синтеза и историко-сравнительный позволили определить предпосылки и факторы, обусловливающие криминализацию геноцида. Сравнительно-правовой метод способствовал изучению вопросов, связанных с уголовной ответственностью за геноцид в международном и национальном законодательствах. Формально-юридический метод позволил определить понятие и содержание дефиниции «культурный геноцид». Результаты: на основе последовательного изучения этапов становления уголовной ответственности за геноцид на международном и национальном уровнях выявлены особенности его определения, факторы, оказавшие влияние на современное понимание геноцида, предложены меры по устранению возникших ввиду неоднократного изменения сущностного содержания понятия «геноцид» ограничений, заключающихся в исключении ответственности за совершение культурного геноцида.
Геноцид, культурный геноцид, уголовная ответственность, международное противодействие геноциду, этапы становления ответственности за геноцид, конвенция
Короткий адрес: https://sciup.org/142245830
IDR: 142245830 | УДК: 341.4, 341.482 | DOI: 10.33184/pravgos-2025.3.13
Текст научной статьи Ретроспективный анализ становления уголовной ответственности за геноцид
Геноцид как преступление занимает особое место в системе норм международного уголовного права, являясь проявлением наиболее тяжких нарушений прав человека и принципов гуманности. Сведения о совершении актов геноцида в отношении некоторых общностей сохранились со средневекового периода.
Факты истребления отдельных наций, истязаний представителей отдельных общностей и иные проявления человеконенавистничества обусловили новые подходы в международном регулировании и обеспечении безопасности и мира, необходимость установления уголовной ответственности за геноцид.
Первые попытки ввести в научный обиход термин «геноцид» и осмыслить его содержание были предприняты в 1944 г. Р. Лемкиным. В работе «Правление государств "оси" в оккупированной Европе» под геноцидом он предложил понимать «скоординированный план различных действий, направленных на ликвидацию фундаментальных основ национальных групп, с целью уничтожения таких групп» [1, с. 79]. Р. Лемкин сформулировал цели и результат актов геноцида – уничтожение политических и социальных институтов, культурных, языковых и национальных чувств, религии и экономических основ существования национальных групп, ущемление личной безопасности, достоинства и даже угрозы жизни групп людей, в отношении которых осуществляется геноцид [1, с. 79]. Также автор обосновал необходимость правовой охраны от посягательств не только отдельных индивидов, но и целых общностей (расовых, религиозных, национальных и иных), выделил признаки, отграничивающие геноцид от других преступлений: наличие плана (умысла) уничтожения, нацеленность действий именно против отдельной группы, множественность методов дости- жения цели (физическое убийство, создание невыносимых условий проживания, уничтожение историко-культурных ценностей и др.).
Нормативное закрепление термин «геноцид» получил в 1948 г. в Конвенции ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него»1 (далее – Конвенция 1948 г.). Р. Лемкин принимал активное участие в разработке легального определения геноцида, которое в конечном итоге было сформулировано так: «под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую и религиозную группу как таковую:
-
а) убийство членов такой группы;
-
б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
-
в) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
-
г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
-
д) насильственная передача детей из одной группы в другую».
Уголовно-правовые признаки геноцида позволили криминализировать действия, которые уже совершались в мировой практике, но с позиции международного права и национальных законодательств не были признаны преступлением.
Предпосылки становления ответственности за геноцид
Исследователи [2, с. 37] указывают, что полное уничтожение народов – одно из древнейших преступлений. Античные источники повествуют об истреблении целых общностей (к примеру, полное уничтожение Карфагена римлянами в 146 г. до н. э.). В Средние века и Новое время имели место религиозные войны, сопряженные с истреблением вероотступников или иных групп. В период колониальных завоеваний захватчики нередко уничтожали коренное население. Так, исторические документы свидетельствуют о систематическом истреблении доколумбовых цивилизаций Ла- тинской Америки, коренных племен Северной Америки и австралийских аборигенов [3, с. 132]. Стороны-агрессоры нередко сочетали прямые репрессии с косвенными факторами – депортацией, насильственной сменой религии и др., что, по сути дела, не позволяло осознать происходящее как единый преступный замысел. Тем не менее исторический опыт совершения рассматриваемого общественно опасного деяния продолжал накапливаться.
В период Первой мировой войны осуществлялось целенаправленное уничтожение армянского населения Османской империи. Геноцид армян, совершенный в 1915 г., был признан общенациональной трагедией. Современные исследователи отмечают, что в то время было уничтожено от 1,5 до 2 млн армян [4, с. 137]. Истребление армянского населения привело к уменьшению их демографического присутствия на территории Османской империи, насильственной смене религии у переживших геноцид армян, большим финансовым потерям, уничтожению и присвоению историко-культурных ценностей, созданных армянской нацией.
Первые шаги в вопросе международного признания геноцида армян были предприняты еще во время его осуществления. Были опубликованы заявления, ноты протеста и выступления представителей исполнительных и законодательных органов, а также глав некоторых государств и отдельных общественных и политических деятелей, направленные на осуждение действий по уничтожению армянского населения. В контексте юридического признания геноцида армян значительными стали действия нового турецкого правительства. После поражения Османской империи в 1918 г. страны Антанты потребовали привлечь к ответственности лиц, причастных к преступлениям против представителей армянской нации. В 1919–1920 гг. в Константинополе был создан военный трибунал с целью осуждения руководства Османской империи. Согласно судебным материалам действия против армян не были обусловлены военной дисциплиной или стратегическими мерами, а являлись спланированными действиями младотурок по истреблению армянской общности. В результате установлен и доказан факт организованных действий геноцидаль- ного умысла против армянского населения. Ввиду того, что в юридическом обиходе того времени термина «геноцид» не существовало, преступные деяния квалифицировались как массовые убийства, а действиям по депортации, смене религии, уничтожению историко-культурных ценностей юридическая оценка так и не была дана.
«Помимо армян геноциду подверглись исторические противники турок – греки, которых было уничтожено около 500 тыс., и такое же число других христиан-ассирийцев. Подверглись частичной принудительной виктимизации и уничтожению также и некоторые представители мусульманского населения – курды, провозгласившие исторической целью создание национального государства, предположительно включающего часть территорий Турции, Ирака, Ирана и Сирии» [5, с. 417]. Однако и эти факты на протяжении нескольких лет не были проанализированы с точки зрения нарушения уголовного законодательства.
К данному вопросу вернулись в 1980-х годах, когда проблема признания геноцида армян стала предметом широкого международного обсуждения. И поводом к этому обсуждению стал Нюрнбергский процесс
Ужасы Второй мировой войны придали идеям Р. Лемкина особую остроту. Нацистская политика на оккупированных территориях Европы предполагала максимальное уничтожение целых народов согласно расистской идеологии, пропагандируемой правительством нацистской Германии. «Всем известна главная цель нацистского режима – захватить как можно больше территорий для того, чтобы обеспечить необходимыми материальными ресурсами новое государство "чистой германской расы", благополучие народа которого никак не могло сосуществовать с нормальной жизнью населения оккупированных регионов, соответственно, оно подлежало уничтожению. В этой связи особое место в преступной деятельности нацистов занимает геноцид, совершенный в отношении жителей этих территорий, и вопросы ответственности за него представляют важное значение» [6, с. 7].
Все признаки геноцида усматривались и в политике Холокоста – систематического преследования и уничтожения еврейского народа в период с 1933 по 1945 гг. По оценкам ученых, целенаправленное физическое истребление привело к уничтожению около 6 млн евреев [7, с. 20]. «Холокост явился самым чудовищным проявлением варварства за все время существования цивилизации. Попытки историков, психологов, социологов и психиатров найти рациональное объяснение этому трагическому историческому феномену до сих пор не увенчались успехом» [8, с. 119].
Геноцидальная политика лидеров нацистской Германии была направлена и на советских граждан. В судебных органах Российской Федерации доказаны факты того, что сотни тысяч мирных жителей, включая женщин, детей и лиц пожилого возраста, были замучены, повешены, расстреляны, заживо сожжены [9, с. 31]. Эти действия представляют собой реализацию плана «Ост», направленного на насильственное переселение, а равно на физическое уничтожение славянских народов на оккупированных территориях Восточной Европы.
Одним из ключевых этапов правовой оценки германского геноцида в отношении еврейского и славянских народов стало проведение Нюрнбергского процесса, в результате которого были привлечены к ответственности руководители нацистского режима.
Нюрнбергский процесс и его влияние на установление правового запрета совершения геноцида
Фундаментальной основой международных правоотношений в сфере недопущения распространения геноцида стал Международный военный трибунал в Нюрнберге, в Уставе2 и Приговоре3 которого перечислены наиболее опасные преступные деяния, совершенные нацистскими преступниками и их пособниками против мира и безопасности человечества. Умаление, отрицание и одобрение таких преступлений с момента оглашения Приговора (1946) запрещено в международном контексте.
Как справедливо пишет О.Н. Ведерникова, «отмечая значение суда в Нюрнберге для укрепления мирового правопорядка, следует учитывать и тот факт, что он сыграл устрашающую роль для потенциальных агрессоров на много лет вперед, поскольку вплоть до начала 90-х годов XX века и трагических событий в Югославии, на протяжении почти 50 лет, международных конфликтов с участием большого числа государств в Европе не возникало»4.
В ходе подготовки к судебному процессу в Нюрнберге термин «геноцид» использовался обвинителями лишь в устной форме, в тексте итогового судебного решения его нет, несмотря на то что в нем прямо говорится об «истреблении расовых и национальных групп, гражданского населения оккупированных территорий с целью уничтожения определенных народов и классов» [10]. Тем самым де-факто концепция геноцида применялась для характеристики действий нацистов, де-юре осудить виновных не представлялось возможным. Принцип nullum crimen sine lege (нет преступления без закона) препятствовал вынесению приговора по несуществующей норме. В праве этот принцип означает, что лицо не может быть привлечено к ответственности за деяние, которое не признано преступным законодательно на момент его совершения. Тем не менее осознание необходимости правовой регламентации геноцида как преступления было настолько острым, что предопределило последующее его законодательное закрепление.
Сразу же после Нюрнбергского процесса в рамках первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведенной в конце 1946 г., делегации Кубы, Панамы и Индии внесли проект резолюции, направленный на достижение двух ключевых целей: декларировать геноцид как преступление, которое может быть совершено как в ходе вооруженных конфликтов, так и в мирное время; признать юрисдикцию по делам о геноциде универсальной, то есть допустить преследования за совершение такого рода преступлений любым государством независимо от наличия территориальной либо персональной связи с субъектом преступления.
Эволюция международно-правовых основ противодействия геноциду
11 декабря 1946 г. Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию № 96 (I) «Преступление геноцида»5 (далее – Резолюция № 96 (I)), которая стала одним из первых международных документов, легимитизирующих понятие и признаки геноцида. Положения этого документа заложили основы создания правовых механизмов для предотвращения и пресечения актов геноцида на многие годы вперед.
Значение положений Резолюции № 96 (I) определяющее в аспекте закрепления дефиниции геноцида как акта преднамеренного уничтожения, полностью или частично, национальных, этнических, расовых или религиозных групп. При этом разработчиками определено, что геноцид может включать в себя различные формы действий, такие как убийство членов группы, причинение серьезных телесных увечий или психических травм, создание невыносимых условий жизни, а также меры по предотвращению рождения детей внутри группы либо перемещение детей из одной группы в другую.
Поводом для принятия Резолюции № 96 (I) стали «многочисленные случаи геноцида, когда полному или частичному уничтожению подвергались расовые, религиозные и иные группы людей». Иначе говоря, международное сообщество признало, что преступления нацистов не только против еврейской нации, славян, но и в отношении, например, политических оппонентов или социально-классовых групп являются проявлениями геноцида. Особо подчеркивается, что геноцид направлен против существования целых общностей, а не индивидов. Наряду с этим отмечается, что последствия геноцида выражены не только в утрате человеческих жизней, но и в потере традиций, устоев, быта и культуры, присущих уничтожаемым группам.
В Резолюции № 96 (I) подчеркивается необходимость межгосударственного взаимодействия в вопросах борьбы с геноцидом, а равно в контексте недопущения совершения геноцида ни в одной стране мира.
Несмотря на безусловное значение для формирования международно-правовых основ противодействия геноциду, положения Резолюции № 96 (I) подвергались критике со стороны ученых и практиков за недостаточную конкретизацию правовых признаков геноцида. В частности, вопросы о границах между «преднамеренным уничтожением» и «массовым убийством» возникают по сей день [11, с. 39].
Вместе с тем, как известно, резолюции международных конференций и организаций не обладают юридически обязательной силой. Они имеют большое значение для «внутреннего права», но в контексте межгосударственного взаимодействия носят рекомендательный характер.
В то же время значение Резолюции № 96 (I) для создания фундаментальных международно-правовых принципов противодействия геноциду трудно переоценить. Она заложила основы для последующего развития норм международного уголовного права в области преследования за совершение данного общественно опасного деяния, закрепив его уголовно-правовые признаки. Дефиниция, отраженная в Резолюции № 96 (I), в неизменном виде была зафиксирована в Конвенции 1948 г., что свидетельствует о прямом влиянии положений Резолюции № 96 (I) на формирование правового стандарта предупреждения преступления геноцида и наказания за него.
Кроме того, Резолюция № 96 (I) способствовала формированию концептуальных основ для признания геноцида преступлением против мира и безопасности человечества, тем самым закрепив объект преступления, обозначив наивысшую степень общественной опасности данного деяния. Впоследствии это позволило обеспечить более эффективное преследование лиц за совершение геноцида.
Резолютивные положения способствовали укреплению концепции индивидуальной ответственности за совершение массовых преступлений и развитию принципа универсальной юрисдикции, который позволяет государствам преследовать в судебном порядке лиц за отдельные преступления вне зависимости от места и давности их совершения, гражданской принадлежности обвиняемых и потерпевших. Важно отметить, что универсальная юрисдикция не является обязательной для всех госу- дарств. Для ее реализации необходимо, чтобы государство приняло соответствующие национальные правовые нормы, ратифицирующие универсальную юрисдикцию.
Резолюция № 96 (I) сыграла ключевую роль в формировании международно-правовой природы геноцида, легализовав его содержание, стала отправной точкой в борьбе с одним из самых жестоких видов преступлений в истории человечества.
Потребовалось менее двух лет, чтобы декларативный характер положений Резолюции № 96 (I) был трансформирован в императивный – положения Конвенции 1948 г. сформированы из правовых позиций, зафиксированных в ней.
Конвенция 1948 г. является основополагающим международным правовым документом, который устанавливает механизм реализации ответственности за совершение геноцида, а также меры его предупреждения и пресечения.
Статья II Конвенции 1948 г. закрепляет дефиницию геноцида, в ней установлен исчерпывающий перечень подлежащих правовой охране групп, а также форм преступного деяния. Подчеркивается, что геноцид – это не просто убийство отдельных людей, а именно умышленные действия, направленные на полное или частичное уничтожение группы как таковой. К группам авторы отнесли общности, объединенные по признакам национальности, этники, расы либо религии.
Вступившая в силу Конвенция 1948 г. получила всеобщее признание, в настоящее время к ней присоединилось подавляющее большинство государств мира, а закрепленное в документе определение геноцида рассматривается в качестве нормы общепринятого международного права (jus cogens). Это фундаментальные, общеобязательные правила поведения, не подлежащие изменению посредством межгосударственных соглашений.
Конвенция 1948 г. сыграла огромную роль в предупреждении и профилактике геноцида. Ее положения обязывают государства принимать и реализовывать меры, направленные на недопущение совершения геноцида на национальном уровне через имплементацию международных норм в национальные законодательства. Наряду с этим ст. III Конвенции закрепляет принцип недопустимости оправдания геноцида, который формирует правовую культуру неприемлемости поддержки такого рода преступлений, создает подходы к установлению ответственности за умышленное отрицание совершившихся актов геноцида. По итогу благодаря принятию Конвенции 1948 г. на межгосударственном уровне сформированы правовые подходы к ответственности за массовые репрессии и уничтожение целых общностей, что способствует укреплению глобальной системы защиты прав человека и предотвращению повторений трагедий прошлого.
Важно отметить, что в ходе окончательного согласования текста Конвенции 1948 г. некоторые положения и идеи Р. Лемкина не были в него включены. В частности, из определения геноцида были исключены упоминания о политических и социальных группах и о культурном геноциде. Как отмечают некоторые ученые, в частности С.М. Кочои, концепция Р. Лемкина, развивавшаяся с 1933 г. и нашедшая отражение в Резолюции № 46 (I), была впоследствии заметно сужена [8, с. 56]. Обусловлены такие изменения мнением разработчиков Конвенции 1948 г., что включение данных признаков может быть использовано для вмешательства во внутренние дела отдельного государства или поставить под вопрос правомерность собственных репрессивных практик.
Не согласимся с таким подходом, поскольку ограничение законодательных признаков геноцида потенциально может привести к их расширительному толкованию. Как утверждает Т.В. Радченко, «геноцид всегда затрагивает культурно-историческую среду, поскольку каждый народ, этнос сформировал свои знания и умения для сохранения своей идентичности и воспроизводства, являющиеся частью общечеловеческой культуры, а утрата части способна изменить целое» [12, с. 104].
Исторический опыт показал, что нередко преступный умысел при совершении геноцида направлен не только на национальную, этническую, расовую либо религиозную группу, но и на объекты, свидетельствующие об отличительных признаках этих самых групп. К ним можно отнести совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и унаследованных определенной нацией, а также ее традиций, обычаев, языка, искусства, верований и моральных норм.
В настоящее время лидирующее положение в контексте распространения геноцида занимает Украина и действия ее военно-политического руководства. С учетом политики русофобии отмечаем все признаки культурного геноцида, осуществляемого на территории проживания русскоязычного населения Украины. Исходя из анализа материалов судебной практики о преступлениях ВСУ против мирных жителей, полагаем, что существует объективная необходимость установить уголовно-правовой запрет на совершение культурного геноцида в том числе.
Как видим, признаки геноцида, закрепленные в Конвенции 1948 г., хоть и подвергаются критическому осмыслению, не претерпевают изменения.
Прошли десятилетия, прежде чем нормы о геноциде заработали на практике. Лишь в 1990-е годы мировое сообщество впервые привлекло к ответственности конкретных лиц. Импульсом стали трагические события, произошедшие в Югославии (1992–1995) и Руанде (1994)6. С учетом принципа неотвратимости ответственности решением Совета Безопасности ООН были учреждены два специальных военных трибунала.
Международный трибунал по Югославии (далее – МТБЮ) стал еще одним этапом в развитии международного уголовного правосудия и механизмов пресечения преступлений геноцида. Этот судебный орган, функционировавший с 1993 по 2017 гг., был призван дать правовую оценку масштабным военным преступлениям, этническим чисткам и актам массового насилия. Значение МТБЮ обусловлено тем, что в ходе его работы был установлен прецедент, когда к ответственности привлечены не только лица, непосредственно совершающие геноцид, но и руководящие должностные лица, отдававшие приказ об истреблении определенной общности. Это позволило осудить лидеров государств, укрепить принцип индивидуальной ответственности за совершение геноцида. Итоги МТБЮ имели также моральное и социальное значение, установив историческую правду о событиях в Югославии и обеспечив достижение справедливости для жертв конфликта. Таким образом, МТБЮ внес важнейший вклад в формирование международных основ противодействия геноциду, в борьбу с безнаказанностью за его совершение, в укрепление принципа верховенства закона на международной арене.
В апреле 1994 г. в результате этнических конфликтов между народами хуту и тутси в Руанде произошли события, унесшие жизнь около 800 тыс. человек. Данные события были квалифицированы как геноцид. Геноцидаль-ный умысел содеянного вызвал международное осуждение и потребовал срочных мер реагирования. В ответ на трагедию Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция о создании Международного трибунала по Руанде (далее – МТР). Функционально он был создан для установления фактов и их международно-правовой оценки. В прецедентном решении по делу Акайесу впервые было дано расширительное толкование термина «геноцид». Указано, что систематические изнасилования лиц женского пола могут квалифицироваться как причинение тяжких физических и психических увечий членам группы и, соответственно, признаваться одной из форм геноцида [13, с. 100].
В другом судебном решении в ходе МТР подчеркивался особый вклад пропаганды и поддержки геноцида. Лица, виновные в умышленном подстрекательстве, совершенном публично (в частности, посредством средств массовой информации), получили наказания столь же суровые, как и непосредственные субъекты геноцида [14, с. 133].
Тем самым к концу XX в. было нормативно определено, что геноцид – это особый вид преступления, за совершение которого исполнители, организаторы, пропагандисты несут равную ответственность.
Параллельно специальные судебные органы заработали вне эгиды ООН. В 2005–2020 гг. при международной поддержке действовал Специальный трибунал по Ираку, входивший в состав иракской национальной судебной системы. В ходе процессов в отношении режима С. Хусейна были вынесены приговоры за ге- ноцид, в частности был осужден и по приговору суда казнен брат Хусейна. Этот случай стал первым приговором, состоявшимся на территории отдельной страны и вступившим в законную силу.
Логическим продолжением эволюции становления ответственности за геноцид стало учреждение постоянного судебного органа – Международного уголовного суда (далее – МУС). В 1998 г. был принят Римский статут МУС7, положения которого регламентируют, что геноцид – одно из наиболее тяжких преступлений наряду с преступлениями против человечности, военными преступлениями и агрессией. МУС наделен юрисдикцией в отношении геноцида, если преступление совершено на территории государства – участника Римского статута либо гражданином такого государства.
Вместе с тем принципы действия МУС основаны на комплементарности по отношению к национальным правовым системам и выступают дополнительным механизмом реализации ответственности, когда национальные органы не способны осуществить правосудие.
Несмотря на ограниченную практику (состоявшихся решений о геноциде по состоянию на 2025 г. нет), сам факт существования МУС значительно укрепил режим противодействия геноциду.
Следует отметить, что создание специальных трибуналов и судебных органов по международным фактам геноцида стало исключительной мерой, продиктованной обстоятельствами, однако Конвенцией 1948 г. такие органы не предусмотрены. Конвенция ООН 1948 г. регламентировала обязанность государств имплементировать нормы об ответственности за геноцид в национальные законодательства.
Отечественный опыт становления ответственности за геноцид
Российская Федерация включила в уголовный закон статью об ответственности за геноцид сравнительно поздно, только в 1996 г., при принятии УК РФ. Имплементации в наци- ональное законодательство исследуемой нормы предшествовал ряд событий.
Советский Союз сыграл заметную роль в установлении международной ответственности за геноцид. Советская делегация активно участвовала в подготовке Конвенции 1948 г., а СССР одним из первых государств ратифицировал ее. При этом в уголовном законодательстве СССР термин «геноцид» не нашел отражения. Хотя в УК РСФСР 1960 г. имелась глава о преступлениях против мира и безопасности человечества, она включала лишь составы, связанные с военными преступлениями.
Некоторые исследователи полагают, что геноцид не был введен в уголовный закон, вероятно потому, что на практике СССР не сталкивался с необходимостью судить кого-либо за совершение данного деяния. Нацистские преступники были осуждены либо Международным военным трибуналом, либо национальными судами союзных республик по смежным статьям [15, с. 39].
Тем не менее понятие «геноцид» довольно рано вошло в советский правовой лексикон. В ходе Рижского судебного процесса 1946 г., Краснодарского и Харьковского судебных процессов 1943 г. над военными преступниками этот термин использовался в устной форме, в итоговых судебных решениях его нет.
На доктринальном уровне тоже разрабатывались подходы к криминализации геноцида. Советская уголовно-правовая наука исследовала тему геноцида в общем контексте преступлений против человечности. Еще в 1947 г. А.Н. Трайнин писал о национальнокультурном геноциде как об одном из видов преступлений нацистов [16, с. 334]. Это раннее научное осмысление проблемы в определенной мере опередило мировой консенсус.
Как бы то ни было, до 1990-х годов тема установления уголовной ответственности за геноцид для СССР оставалась исторической, привязанной к преступлениям нацистов в период Второй мировой войны. Распад Союза и возникновение новых локальных конфликтов на постсоветском пространстве предопределили практическое значение законодательного закрепления преступления геноцида для российского правоприменения.
В 1996 г. в УК РФ была включена ст. 357 «Геноцид», которая почти полностью воспро- изводит конвенционное определение данного преступления. В российском уголовном законодательстве геноцид определяется как действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы.
Как видим, отечественный законодатель криминализировал только физический и биологический геноцид, тогда как за совершение культурного геноцида уголовно-правовой запрет не установлен. Считаем, что указанное порождает правовой пробел, усложняющий привлечение к ответственности лиц, совершивших действия, направленные против национальной, этнической, расовой либо религиозной культуры какой-либо группы населения или народа. Полагаем, что посягательства на совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и унаследованных определенной нацией, а также на ее традиции, обычаи, язык, искусство, верования, моральные нормы и систему ценностей в условиях совершения деяний, охватываемых объективной стороной преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ, может свидетельствовать о наличии умысла уничтожить преследуемую группу как таковую.
Заключение
Концепция геноцида как юридического института была впервые осмыслена Р. Лемкиным в 1944 г. Его труды легли в основу международного правопонимания данного преступления, определение которого закреплено в Конвенции 1948 г. Дефиниция по сей день остается правовым эталоном и включает в себя упоминание о ряде действий, совершаемых с намерением уничтожить полностью или частично национальную, этническую, расовую и религиозную группу. Вместе с тем обращаем внимание на ограничения, связанные с исключением из определения культурного геноцида, а также политических и социальных групп, что вызывает дискуссии в уголовно-правовой науке и требует переосмысления. Исторические и современные примеры осуществления геноцида показывают, что зачастую преступный умысел направлен не только на саму общность и ее представителей, но и на любые духовные и материальные проявления этой общности, выраженные в ее культуре. Однако такие действия в настоящий момент не являются уголовно наказуемыми. В этих условиях приобретает актуальность вопрос о научной разработке понятия культурного геноцида и нормативного закрепления соответствующих выводов. С учетом этого предлагаем:
-
1) авторское определение культурного геноцида, под которым понимаем умышленное и систематическое уничтожение и повреждение элементов культурной идентичности этнических, национальных, расовых или религиозных групп, включающее подавление языка, традиций, усмирение образовательных институтов, деструкцию исторических свидетельств становления и существования общности, уничтожение и повреждение отли-
- чительных символов с целью частичной или полной ликвидации культурной самобытности группы, а равно разрыва межпоколенческой преемственности;
-
2) закрепить предлагаемое определение в Федеральном законе от 21 апреля 2025 г. № 74-ФЗ «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», тем самым установив бланкетность уголовно-правовой нормы об ответственности за геноцид и детализировав признаки деяния;
-
3) в диспозицию ст. 357 УК РФ внести изменения, установить уголовно-правовой запрет на совершение культурного геноцида.
Таким образом, геноцид представляет собой одно из наиболее тяжких преступлений, затрагивающих не только права отдельных лиц, но и фундаментальные ценности человечества. Разработка признаков геноцида – сложный процесс, на результат которого повлияли и отдельные умозаключения именитых ученых, и сами исторические события, раскрывшие весь ужас данного преступления.