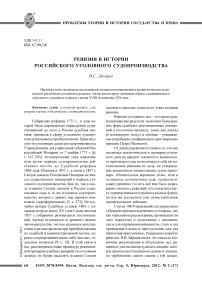Ревизия в истории российского уголовного судопроизводства
Автор: Дикарев Илья Степанович
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Актуальные проблемы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 2 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
Научная статья посвящена исследованию истории возникновения и развития института ревизии в российском уголовном процессе. Автор анализирует правовые нормы, содержащиеся в документах, изданных в период с конца XVIII по середину XIX века.
Уголовный процесс, суд, ревизия, надзор, обжалование, состязательность
Короткий адрес: https://sciup.org/14972920
IDR: 14972920 | УДК: 343.11
Текст научной статьи Ревизия в истории российского уголовного судопроизводства
Губернская реформа 1775 г., в ходе которой была кардинально перестроена существовавшая до этого в России судебная система, принесла в сферу уголовного судопроизводства важные преобразования. Производство по уголовным делам регламентировалось Учреждениями для управления губерний Всероссийской Империи от 7 ноября 1775 г. [6, с. 167–295]. Установленный этим нормативным актом порядок судопроизводства действовал вплоть до Судебной реформы 1864 года. Издание в 1832 г., а затем в 1857 г. Сводов законов Российской Империи не внесло существенных изменений в порядок уголовного судопроизводства. Как до, так и после издания Сводов законов в России существовало одно и то же уголовное судопроизводство, которое с давних пор принято именовать «дореформенным» [3, с. 272]. Не случайно авторы Судебных уставов 1864 г. называли вторую книгу XV тома Свода законов 1857 г. собранием разнородных постановлений, частью оставшихся от древнего нашего законодательства, частью изданных впоследствии в разные времена при преобразованиях по судебной и административной частям, нередко для разрешения каких-либо частных, отдельных вопросов [9, с. 19]. В этой связи и мы, рассматривая ниже процедуру ревизионной проверки судебных решений по уголовным делами, не будем выделять издание Сводов законов в качестве отдельного этапа истории ревизии.
Ревизия уголовных дел – это процедура, возникшая как результат эволюции более ранних форм судебных инстанционных отношений в уголовном процессе, таких как доклад (в московскую эпоху), а позднее – утверждение (апробация, конфирмация) приговоров (во времена Петра Великого).
От доклада ревизию отличало то, что она сводилась исключительно к проверке уголовного дела на предмет законности вынесенного приговора и уже не включала в себя ни постановление решения по делу, ни утверждение вынесенного нижестоящим судом приговора. «Решительное вершение дела», хотя и оставалось полномочием суда, осуществляющего ревизию (то есть все еще было неразрывно связано с ревизией, что свидетельствует о преемственности процессуальных форм), но все же составляло уже самостоятельное процессуальное действие.
Статья 108 Учреждений для управления губерний определяла ревизию уголовных дел как «прилежное рассмотрение, произведено ли дело порядочно и сходственно с законами, сколь для оправдания невинности, столь и для приведения в ясность преступления, или для обличения преступника». Раскрывая сущность ревизии, Я.И. Баршев писал, что она есть вторичное рассмотрение и обсуждение дел, решенных уже низшими судами и лицами, которое производится высшими судами и лицами, по требованию самого закона с той целью, чтобы получить полное убеждение в справедливости и правильности постановленных относительно их приговоров [1, с. 164].
В зависимости от основания перенесения дел в вышестоящую судебную инстанцию ревизия подразделялась на два вида: 1) безусловную, когда уголовное дело в обязательном порядке, автоматически передавалось в вышестоящий суд на ревизию, и 2) условную, когда необходимость вознесения дела на ревизию связывалась законом с определенным условием – возникновением разногласий между судом, с одной стороны, и административным органом, утверждавшим приговор, или прокурором – с другой.
Придание ревизии публично-правового характера, выражавшегося в установленной самим законом обязательности переноса дела в вышестоящую инстанцию, свидетельствует о том, что законодатель придавал этой процедуре значение гарантии обеспечения правильности и справедливости приговоров по уголовным делам. Считалось, что однократное рассмотрение дела в суде первой инстанции не дает полной уверенности в правосудности вынесенного решения, оставляет сомнения в его правильности, в связи с чем требуется обязательная и полная перепроверка уголовного дела вышестоящей, то есть более квалифицированной и авторитетной, судебной инстанцией. Ставя перед уголовным судом задачу установления истины, «удовлетворения правды» (Я.И. Баршев), законодатель не ограничивал полномочий суда второй инстанции запретом поворота к худшему: ревизия осуществлялась «сколь для оправдания невинности, столь и для приведения в ясность преступления, или для обличения преступника».
Следует учитывать, что к моменту осуществления ревизионной проверки производство по уголовному делу не считалось оконченным: ревизия была лишь очередным этапом судебного разбирательства (в чем нельзя не усмотреть связь с более ранней формой проверки приговоров – докладом дела). В связи с этим ревизионная инстанция не ограничивалась в полномочиях устанавливать не принятые ранее во внимание нижестоящим судом обстоятельства, дополнять проведенное по делу следствие. Соответственно, неполнота следствия в нижестоящем суде сама по себе не рассматривалась как процессуальное нарушение и служила основанием возвращения дела в суд первой инстанции лишь тогда, когда не могла быть восполнена в ревизионной инстанции.
Различали ревизию уголовных дел во второй степени суда и ревизию уголовных дел в Правительствующем Сенате. По некоторым категориям уголовных дел (в частности, о преступлениях, за которые в качестве наказания устанавливались смертная казнь, лишение чести или торговая казнь) судебное разбирательство проходило три этапа.
Так, если в суде первой степени (в зависимости от сословия, к которому принадлежал обвиняемый, это мог быть Уездный суд, Городовой магистрат, Ратуша или Нижняя расправа) выяснялось, что обвиняемому грозит смертная казнь, лишение чести или торговая казнь, то после исследования уголовного дела и изложения своего мнения суд отсылал это дело вместе с обвиняемым в суд второй степени (соответственно в Верхний земский суд, Губернский магистрат или Верхнюю расправу), который также входил в рассмотрение дела и, учинив приговор, отсылал его уже в Палату уголовного суда.
Палата уголовного суда, получив из нижестоящего суда уголовное дело, должна была без замедления учинить производству по делу ревизию и приступить к решительному вершению дела. При этом ревизия, как осуществляемая в публично-правовом порядке всесторонняя проверка производства по уголовному делу и вынесенного нижестоящим судом решения, являлась предпосылкой, условием окончательного разрешения дела.
Господствовавший во времена Екатерины II сословный принцип судопроизводства выражался в требовании уделять особое внимание выяснению сведений относительно лет и состояния подсудимых, а если под судом оказывался чиновник, то и о его службе. При возникновении необходимости выяснения дополнительных обстоятельств, запроса документов или их перевода с иностранного языка на русский Палата уголовного суда была обязана сделать это самостоятельно, не возвращая для этого дел назад в те места, где они уже получили свое решение. В случае сомнения относительно показаний подсудимого Палата требовала его доставки в губернский город и допрашивала «в пополнение прежних допросов». При невозможности выполнения каких-либо судебных следственных действий (дать обвиняемому с кем-либо очные ставки или же учинить другие разыскания, для которых сам обвиняемый лично должен быть на месте, где преступление совершено) Палата давала поручение выполнить такие действия тому судебному месту, из которого дело было «вознесено» на ревизию. К новому расследованию дело обращалось лишь в тех случаях, когда по рассмотрении дела ревизионной инстанцией следствие признавалось совершенно недостаточным.
Стороны, в том числе подсудимые, никакими правами при производстве ревизии не пользовались. Подсудимых, как уже было сказано, присылали из уездных в губернские города только по требованию Палаты уголовного суда для производства дополнительных допросов. Участники процесса не имели возможности знакомиться с записями дела (за исключением наличных подсудимых, о том ходатайствующих).
Завершалась ревизия составлением выписок из дела, в которых указывались все важнейшие обстоятельства дела и законы, к нему относящиеся. В приговорах Палат излагались: 1) существо и ход дела, 2) обстоятельства, имеющие для дела важное значение, 3) законы, подлежащие применению в данном деле, и, наконец, 3) судейское определение.
Для решительного вершения Палата уголовного суда «возносила» дела к государеву наместнику (то есть генерал-губернатору), «дабы повелением его в страх злым наказан был преступник за преступление в том уезде или городе, где учинил злое». Здесь надо заметить, что губернаторы не являлись судебной инстанцией и вообще не были носителями судебной власти [8, с. 582]. Право утверждения приговоров было передано им в целях осуществления надзора за судебными установлениями – генерал-губернатор выполнял роль высшего блюстителя закона, наместника Государя, в руках которого были сосредоточены все ветви государственной власти.
Еще до подписания в Палате уголовного суда приговор вносился в виде судейского определения в особый журнал и таким образом поступал к просмотру губернского прокурора. Просмотр осуществлялся в срок не позднее трех дней, а по делам, требующим скорейшего исполнения, – немедленно. Если губернский прокурор находил приговор Палаты не соответствующим закону или у него возникало сомнение в правильности приговора, он предлагал суду свои замечания. При согласии с замечаниями прокурора Палата изменяла изложенное в журнале постановление. В тех же случаях, когда судьи не соглашались с замечаниями прокурора и подписывали решительное определение или протокол, несогласный с его протестом, прокурор обязан был, надписав на протоколе «читал и остаюсь при прежнем протесте», донести немедленно о замечании или неправильности своему начальству и губернатору. Впрочем, это не останавливало дальнейшего исполнения определения суда.
Губернатор по представленному на утверждение приговору мог провести дополнительное исследование, истребовать необходимые сведения и объяснения. В случае установления новых обстоятельств, неизвестных суду, но требующих изменения приговора, губернатор направлял в Палату свои дополнения. Палата, в свою очередь, могла изменить свой приговор или оставить его в силе, изложив основания принятого решения. Если губернатор не утверждал приговор, дело с изложением его мнения направлялось в Правительствующий Сенат.
При отсутствии разногласий между Палатой уголовного суда и губернатором приговор признавался окончательным.
По общему правилу, окончательные приговоры не подлежали пересмотру. Правда, закон предусматривал исключение из этого правила. В частности, пересмотр допускался, когда на то испрашивалось особое согласие Государя, в следующих случаях: а) когда Сенат усматривал неправильность действий или решений Палаты, хотя бы по делу постороннему; б) если по какому-либо стечению обстоятельств обнаруживалось, что приговор, приведенный в исполнение, постановлен был незаконно, и особенно когда наказанию был подвергнут невиновный; в) когда выяснялось, что в исполнение приведен такой приговор Палаты уголовного суда, который подлежал ревизии вышестоящего судебного места. Пересмотр дел по усмотрению Сената мог последовать лишь случайно, в связи с чем такой порядок не мог служить по-настоящему действенной гарантией прав неправильно осужденных [9, с. 327, 328]. При пересмотре Сенатом окончательных приговоров действовало правило недопустимости поворота к худшему.
Нельзя не заметить близость рассматриваемой формы проверки Сенатом окончательных приговоров с судебным надзором советского образца: пересмотр инициировался представителями судебного ведомства, осуществлялся в публичном порядке и в отношении окончательных приговоров, исключительно в интересах закона.
Возвращаясь к ревизии, заметим, что первоначально, по смыслу Учреждений для управления губерниями, в Палату уголовного суда направлялись на ревизию лишь обвинительные приговоры. Однако Указом от 10 октября 1782 г. было предписано, чтобы присутственные места вносили на ревизию в Палату свои решения и в тех случаях, когда подсудимые были признаваемы невиновными. Позднее на основании утвержденного Императором мнения Государственного совета от 21 января 1846 г. было предписано отсылать на ревизию Палаты из низших инстанций дела, по которым подсудимые подвергаются лишению всех прав состояния и смертной казни, или ссылке в каторжную работу, или на поселение, или же лишению всех особых прав и преимуществ, как лично, так и по состоянию осужденного ему присвоенных, и ссылке на житье в Сибирь или другие отдаленные губернии, или отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства или в рабочий дом, или же заключению в крепости или смирительном доме с потерей некоторых особых прав и преимуществ на основании ст. 53 Уложения о наказаниях [4, с. 191]. Тем самым, ревизия распространялась на приговоры нижестоящих судов по всем наиболее важным уголовным делам, превращаясь в средство тотального судебного надзора.
Законодательство конца XVIII – начала XIX в. предусматривало не менее десяти слу- чаев, когда уголовные дела в обязательном порядке подлежали ревизии Правительствующего Сената. При уголовных делах, вносимых на ревизию, должны были находиться: 1) приговор в подлиннике, 2) выписка из дела, 3) краткие записки из дела, из мнений нижних судебных мест и приговора Палаты с указанием сведений о происхождении подсудимого, его возрасте, а также о его отличных заслугах или важных пороках, 4) мнение начальника губернии [4, с. 198–199, 200].
В Сенате по поступившему уголовному делу составлялась докладная записка, в которой отражались существо и обстоятельства дела, подлежащие применению законы, а также содержание протестов прокурора, мнение губернатора и решения судебных мест. Подсудимые, как правило, к чтению записок не вызывались. Однако по их просьбе такая возможность им предоставлялась, прежде всего с той целью, чтобы «дать этим запискам более достоверности и предоставить подсудимым последний способ к защите и охранению невинности».
Дела в Сенате разрешались по единогласному мнению присутствующих в департаментах. При отсутствии единогласия или в случае поддержанных Министром юстиции возражений Обер-прокурора дело поступало на рассмотрение Общего собрания Сената, где разрешалось большинством голосов, с которым должен был согласиться Министр юстиции [1, с. 179, 180].
Во времена правления Павла I ревизионный порядок, утвержденный Екатериной II, сократился за счет упразднения некоторых судебных инстанций, но в сущности оставался неизменным до Судебной реформы 1864 г. [9, с. 12]. Кроме того, сузилась компетенция Палат уголовного суда, которым вменялось в обязанность отсылать на утверждение губернаторов решения по всем без исключения поступавшим на ревизию уголовным и следственным делам. В случае несогласия с решением Палаты дело поступало на ревизию Сената.
Кроме того, Уголовная палата была обязана вносить на ревизию Правительствующего Сената до исполнения приговоры: 1) влекущие для подсудимых наказания в виде смертной казни или лишения чести; 2) по обвинению дворян и чиновников в убийстве, даже в случаях признания их невиновными [2, с. 382].
В 1810 г. в судебной системе появилась еще одна судебная инстанция – Государственный Совет. Первоначально законом, регламентировавшим компетенцию этого нового органа [7, с. 61–78], ведение судебных дел не предусматривалось. Однако постепенно Государственный Совет все более и более включался в судопроизводство по уголовным делам: через Государственный Совет вносились на утверждение Государя приговоры Правительствующего Сената: 1) по делам о дворянах и чиновниках, осужденных к лишению всех прав состояния или же к потере всех особенных, как лично, так и по состоянию присвоенных им прав и преимуществ (это правило развивает положение ст. 13 жалованной Екатериной Великой Грамоты на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства [6, с. 22–53]); 2) по делам о наказании более девяти человек простолюдинов, когда Министр юстиции не признавал его правильным и т. д.
Осознавая недостатки ревизии, ее несовершенство в сравнении с более прогрессивными формами судопроизводства, применявшимися за рубежом, прежде всего во Франции, законодатель в ходе Судебной реформы 1864 г. отказался от ревизионного порядка проверки дел в пользу процедур, основанных на обжаловании судебных решений.
Как писал П.П. Пусторослев, ревизионное уголовное судопроизводство более апелляционного замедляло ход уголовного правосудия, а между тем менее апелляционного обеспечивало основательность уголовного правосудия. Ввиду этого ревизионное производство необходимо только при отсутствии хорошо устроенного апелляционного производства [5, с. 199].
В ст. 13 Основных положениях уголовного судопроизводства, утвержденных 29 сентября 1862 г. и являвшихся своего рода концепцией реформы уголовного судопроизводства, законодатель счел нужным специально закрепить норму, отменяющую рассмотрение судебных приговоров по силе самого закона в ревизионном порядке [9, с. VII–XXV].
Судебные уставы сменили ревизионный порядок началом жалобы и приняли француз- скую систему двух инстанций, рассматривавших дело по существу (то есть первой и апелляционной). Из Франции были переняты кассационный пересмотр для приговоров окончательных и возобновление уголовных дел для приговоров, вошедших в законную силу [10, с. 523].
Впрочем, несмотря на объявленный отказ законодателя от ревизии, она не исчезла бесследно. До настоящего времени в российском законодательстве сохраняются нормы, являющиеся рудиментами ревизионного порядка. Правильное понимание сущности явлений современного законодательства, в том числе проявляющегося в уголовном судопроизводстве ревизионного начала, немыслимо без знания их истоков. Именно этим обусловлена настоятельная необходимость исследования истории уголовно-процессуального права.
Список литературы Ревизия в истории российского уголовного судопроизводства
- Баршев, Я. И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству/Я. И. Баршев. -М.: ЛексЭст, 2001. -240 с.
- Кутафин, О. Е. Судебная власть в России: история, документы. В 6 т. Т. II. Период абсолютизма/О. Е. Кутафин, В. М. Лебедев, Г. Ю. Семигин; науч. консультант проекта Е. А. Скрипилев; отв. ред. С. А. Колунтаев. -М.: Мысль, 2003. -848 с.
- Кутафин, О. Е. Судебная власть в России: история, документы. В 6 т. Т. III. От Свода законов к судебной реформе/О. Е. Кутафин, В. М. Лебедев, Г. Ю. Семигин; науч. консультант проекта Е. А. Скрипилев; отв. ред. А. В. Наумов. -М.: Мысль, 2003. -829 с.
- Линовский, В. А. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России/В. А. Линовский. -М.: ЛексЭст, 2001. -240 с.
- Пусторослев, П. П. Из лекций русского уголовно-судебного права. Вып. I. Введение. Источники уголовно-судебного права. Система уголовных судов/П. П. Пусторослев. -Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1909. -330 с.
- Российское законодательство X-XX вв. В девяти томах. Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма/отв. ред. тома Е. И. Индова. -М.: Юрид. лит., 1987. -528 с.
- Российское законодательство X-XX вв. В девяти томах. Т. 6. Законодательство первой половины XIX в./отв. ред. тома О. И. Чистяков. -М.: Юрид. лит., 1988. -432 с.
- Самоквасов, Д. Я. История русского права: (Лекции 1906/07 уч. г.)/Д. Я. Самоквасов. -М.: Унив. тип., 1906. -595 с.
- Судебные уставы 20 ноября 1864 г. с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией. В IV ч. Часть вторая. -2-е доп. изд. -СПб.: Тип. Второго Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1867. -523 с.
- Фойницкий, И. Я. Курс уголовного судопроизводства. В II т. Т. II/И. Я. Фойницкий. -СПб.: Альфа, 1996. -606 с.