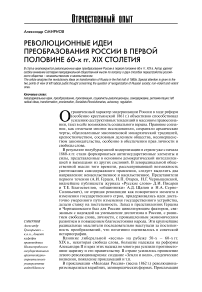Революционные идеи преобразования России в первой половине 60-х гг. XIX столетия
Автор: Смирнов Александр Григорьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются революционные идеи преобразования России в первой половине 60-х гг. XIX в. Автор уделяет особое внимание взглядам леворадикальной общественной мысли по вопросу о двух способах переустройства российского общества - ненасильственном и насильственном.
Леворадикальные идеи, преобразование, прокламация, социалисты-революционеры, самодержавие, регламентация
Короткий адрес: https://sciup.org/170165579
IDR: 170165579
Текст научной статьи Революционные идеи преобразования России в первой половине 60-х гг. XIX столетия
О граниченный характер модернизации России в ходе реформ (особенно крестьянской 1861 г.) объективно способствовал усилению деструктивных тенденций в массовом правосознании, таил в себе возможность социального взрыва. Правовое сознание, как отмечали многие исследователи, сохраняло архаические черты, обусловленные многовековой монархической традицией, крепостничеством, сословным делением общества, несовершенством законодательства, особенно в обеспечении прав личности и свободы слова.
В результате полубуржуазной модернизации в стране уже с начала 1860-х гг. стали формироваться антигосударственные элементы и силы, представленные в основном демократической интеллигенцией и выходцами из других сословий. В леворадикальной общественной мысли того времени, рассматривающей возможность уничтожения самодержавного правления, следует выделить два направления: ненасильственное и насильственное. Представители первого течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Н.Г. Чернышевский, виднейшие публицисты журнала «Русское слово» Д.И. Писарев и Т.Е. Благосветлов, «общинники» А.Д. Щапов и Н.А. Серно-Соловьевич), не отрицая революции как поворотного момента в изменении государственного строя, придерживались идеи достаточно умеренного пути изменения государственного устройства, делали ставку на постепенность. Запад в представлениях Герцена и Чернышевского был для России цивилизующим фактором, связанным с надеждой на уменьшение деспотизма в России, с развитием свободы слова, личности, с промышленным экономическим развитием и повышением благосостояния народа. Эти крупнейшие радикальные мыслители последовательно выступали за постепенность преобразований, что негативно оценивалось в советской историографии.
Влияние либеральной «весны» на рубеже 50-х – 60-х гг. XIX в., некоторая свобода слова, большие надежды на реформы Александра II и крах этих надежд во много раз усилили противостояние царизму и его правительству. В стране усилилось проявление левого революционаризма: создание «Земли и воли», студенческие волнения, появление прокламаций и т.п.
В прокламации «Молодая Россия» (весна 1862 г.) революциона-ризм выразился в крайних, заговорщических формах. Прокламация декларировала идеи неизбежности революции после реформы 1861 г., кровавого насилия как в ее процессе, так и после нее. Она содержала призыв к новой пугачевщине, признавая необходимым пролить «втрое больше крови, чем якобинцами в 90-х гг.». Основным требованием, которое разделяли многие революционные демократы пореформенного времени, было уничтожение дома Романовых, т.е. свержение самодержавной власти. Условием ее падения через революционный взрыв считалось банкротство царского правительства в усложнившейся ситуации в стране вследствие некоего повода.
Автор прокламации П.Г. Заичневский предлагал путь реализации идей будущего при помощи меньшинства, т.е. небольшого кружка «действительно передовых людей». По всей стране должны быть созданы тайные заговорщические общества с подчинением их центру для совершения насильственного переворота. После его осуществления в стране устанавливается диктатура для проведения «кровавых реформ», без которых обойтись невозможно.
В прокламации «Молодая Россия» выдвигалось требование изменения «современного деспотического правления» и его превращения в республиканско-федеративный союз областей, при котором вся власть должна перейти в руки национального и областных собраний. При этом вопросы распада великодержавного государства, его разделения на области должно решать само народонаселение – общинами на своих местах1. В вопросе государственно-административного переустройства России «Молодая Россия» следовала идеям децентрализации на основе федеральных принципов, которые выдвинули А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Еще 1 января 1891 г. в «Колоколе» была опубликована статья Огарева «На новый год», в которой был изложен план государственного преобразования страны. Согласно этому плану во главе каждой области должна стоять областная законодательная дума, а во главе всей федерации – Государственная дума, состав которой представлен выборными от областей. В основу управления на местах (областях) был положен принцип общественного управления и выборности всех властей, вплоть до отдельных общин, из которых состоят области. Чиновничество как категория управителей должна прекратить свою деятельность. Этим планом предусматривалось также введение свободы слова, печати, вероисповедания, выборности суда. Вопрос о царской власти оставался нерешенным, хотя идея ее отрица-лась2.
Кружок сторонников «Молодой России» вел полемику с Герценом и Огаревым, позицию которых определял как либеральную. И это нашло выражение в их представлениях об организации власти после переворота. Заичневский считал, что правительство страны должна возглавлять революционная партия, которая сохранит «теперешнюю централизацию», но не чисто административную, а политическую, чтобы при ее помощи ввести новые основы экономического и общественного быта. Партия должна установить диктатуру и не останавливаться ни перед чем3.
В структуре предполагаемого нового управления России «Молодая Россия» особо выделяла в качестве его основы крепкую революционную организацию с жесткой деспотией на основе некоторых конституционных начал, таким образом, уже в проекте была заложена угроза создания тоталитарного режима. Сторонники «Молодой России» выступали за уничтожение брака как «в высшей степени безнравственного и немыслимого при полном равенстве полов», а воспитание детей должно было проводиться коммуной за счет общества. Эти взгляды были присущи не только многим левым радикалам 1860-х гг., но и деятелям начала советской эпохи.
«Молодая Россия» произвела огромное впечатление на все образованные слои русского общества. Она до предела напугала власть, что привело к ужесточению контроля за умонастроениями молодежи, многочисленным репрессиям против леворадикального крыла русской общественной мысли. Однако большинство радикалов не поддержало ее, в том числе и А.И. Герцен. Он критически оценил прокламацию Заичневско го в статье «Молодая и старая
Россия», опубликованной в «Колоколе» 15 июля 1862 г. Герцен считал появление прокламации «неуместным», играющим на руку реакции. В призывах к кровавой борьбе он усмотрел «книжность» молодых людей, их оторванность от народа, хотя и высоко оценил смелость и решительность в борьбе со старой и либеральной Россией1.
Вопрос о насильственном и даже кровавом захвате власти у левых радикалов был основным. Они считали, что поскольку существующая власть держится на насилии (армия, полиция, суд, чиновничество и т.п.), то ее следует уничтожить с помощью насилия. Для государственного переворота следует провести работу с помощью различных организационнопропагандистских форм. Сам переворот – это кульминация борьбы за власть. П.Н. Ткачев, один из идеологов левого радикализма, заявлял: «Если русские социалисты-революционеры хотят чего-нибудь добиться для осуществления своих целей [т.е. захвата власти], они должны вступить в тайный заговор, заговор же не мыслим без центральной власти, нередко “безусловной” и “безответственной” – без строгого подчинения и иерархии членов… Без известной иерархии, без разделения членов на “посвященных”, “полупосвященных” и совсем “непосвященных” заговор также легко может обойтись, как и без власти и подчинения. Невозможно, чтобы все члены его знали все дела»2.
Если Бакунин отрицал позитивное значение всякого государства, то Ткачев выражал другой порок, присущий народническим идеям, – непонимание классовой природы его происхождения, что выливалось в теорию о внеклассовом происхождении Российского государства. Он приходил к выводу об отсутствии ост- рых сословно-классовых противоречий. Ткачев не сумел глубоко проанализировать российскую государственную действительность, степень проникновения монархических идей в сознание народа. В политических взглядах государственного переворота он был сторонником бланкизма (заговора), считая царизм мнимой силой, которую легко уничтожить.
Представления левых радикалов о будущем социалистическом обществе характеризовали общие черты, которые можно свести к следующим положениям. Во-первых, это «разумное» и «справедливое», но твердое управление обществом под руководством некоей элиты с жесткой регламентацией в духе Бабефа Гракха. Во-вторых, полное обобществление всех имеющихся богатств или же их раздел между членами общества. В-третьих, коллективизм во всей общественной жизни (в труде, жилище, воспитании детей и т.п.). Человек в системе коллективизма рассматривается не как неповторимая индивидуальность со всеми присущими ему свойствами, а только как «винтик», «единица» в соответствии с регламентируемым трудом, семейно-брачными отношениями, одинаковыми взглядами на все происходящее вокруг.
Все эти положения революционеров левого толка были полны заверений, что с введением всеобщего равенства наступит золотой век человечества, царство свободы и свободного труда, всеобщего материального благосостояния и небывалого расцвета личности. Что касается управления новым обществом, то левые радикалы отводили роль управителей некоей элите, стоящей над массами и заботящейся об их интересах и правах. Ясно, что подобные взгляды были далеки от реальности, и человек при подобной системе никак не мог быть свободной личностью: коллективизм и всеобщее равенство сковывали его хуже железного обруча.