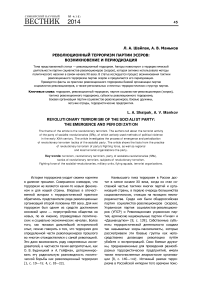Революционный терроризм партии эсеров: возникновение и периодизация
Автор: Шайпак Леонид Александрович, Маньков Андрей Васильевич
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 4 (18), 2014 года.
Бесплатный доступ
Тема представленной статьи - революционный терроризм. Авторы повествуют о террористической деятельности партии социалистов-революционеров (эсеров), которая активно использовала методы политического насилия в самом начале XX века. В статье исследуется процесс возникновения тактики революционного терроризма партии эсеров и предлагается его периодизация. Приводятся факты из практики революционного терроризма Боевой организации партии социалистов-революционеров, а также региональных и местных террористических структур партии.
Терроризм, революционный терроризм, партия социалистов-революционеров (эсеров), тактика революционного терроризма, субъекты революционного терроризма, боевая организация партии социалистов-революционеров, боевые дружины, летучие отряды, террористические предприятия
Короткий адрес: https://sciup.org/14114018
IDR: 14114018
Текст научной статьи Революционный терроризм партии эсеров: возникновение и периодизация
Fighting force of the socialist-revolutionaries, military units, flying squads, terrorist organizations.
История терроризма уходит своими корнями в далекое прошлое. Совершенно очевидно, что терроризм не является каким-то новым феноменом и для нашей страны. Впервые в отечественной истории к террористической практике обратились представители ряда революционных организаций второй половины XIX века. Для них терроризм был одним из средств достижения основной цели — переустройства общества на новых, по их мнению, справедливых политических и социально-экономических началах. Более того, как показал дальнейший исторический опыт, можно говорить о том, что терроризм для определенной части революционеров прошлого во многом отождествлялся с самой революцией. Это дало возможность ряду современных исследователей, в частности таким авторитетным, как О. В. Будницкий и А. Гейфман, детерминировать эту радикальную разновидность политической борьбы как революционный терроризм [1, с. 10—15; 4, с. 18—22].
Наивысшего пика терроризм в России достиг в самом начале XX века, когда он стал составной частью тактики многих партий и организаций страны, в первую очередь большинства социалистических, стоящих на позициях неонародничества. Среди них были общероссийская партия социалистов-революционеров (эсеров), Украинская партия социалистов-революционеров (УПСР) и Революционная украинская партия, армянские национальные партии «Гнчак» и «Дашнакцутюн» [8, с. 139]. Собственные субъекты террористической деятельности создали так называемые эсеры-максималисты, которые рассматривали эти боевые группы как непосредственно делающие революцию путём убийств и экспроприаций. Свои боевые дружины, предназначенные для проведения разнообразных террористических предприятий, имели также многочисленные анархистские организации [8, с. 140—142]. Истинный размах терроризма в Российской империи того времени поис- тине впечатляет. Так, только за период революции 1905—1907 гг., по оценке А. Гейфман, террористами различных партий и групп было убито и ранено около 4500 государственных служащих различного уровня, «попутно» было убито 2180 и ранено 2530 частных лиц, а всего же жертвами террористических актов стали около 17 тысяч человек [2, с. 185]. Ареной террористической борьбы стала вся территория огромной страны — от Польши и Прибалтики до Поволжья и Восточной Сибири.
В общественном сознании наших современников терроризм этого периода ассоциируется прежде всего с деятельностью партии социалистов-революционеров (эсеров), организационно оформившейся в конце 1901 — начале 1902 года [12, с. 8]. Как известно, в противостоянии с царским самодержавием эсеры считали себя наследниками традиций «Народной воли». Исходя из этого российская историческая наука традиционно выводит и террористическую тактику эсеров из их идейной близости с народниками, схожими политическими целями и однородной социальной базой движения. Исследователи также связывают терроризм эсеров с конкретными личностями, перенесшими свои тактические взгляды в новую историческую оболочку, коей стала созданная, в том числе и бывшими народниками, партия. На наш взгляд, несмотря в общем на методологическую обоснованность такого подхода к истории возникновения революционного терроризма партии социалистов-революционеров, в настоящем такое традиционное видение проблемы мы считаем несколько упрощенным. Революционный терроризм эсеров является значительным фактом отечественной истории и поэтому как всякий сложный факт неоднозначен и многолик. Для того чтобы провести объективный исторический анализ зарождения тактики революционного терроризма эсеров, нам необходимо установить все доступные детали исследуемого явления.
Общеизвестно, что организация «Народная воля» была создана в июне 1879 года. Народовольцы видели в террористических актах не только средство самообороны и мести, но и одно из основных средств революционной борьбы. По их мнению, террористические предприятия «устрашали» правительство, а также способствовали «возбуждению» народных масс. Оппозиционерами достаточно быстро была создана эффективная система конспирации и проведения террористических операций, которая позволяла совершать покушения на территории всей Европейской России, в том числе и против тща- тельно охраняемого императора. В короткие сроки «Народная воля» организовала несколько покушений на жизнь Александра II. Как известно, «битва революционеров» с самодержавием, несмотря на убийство царя 1 марта 1881 года, закончилась поражением «Народной воли» и ее последующим разгромом в 1881—1893 годах [6, с. 6—7].
В то же время партия эсеров образовалась лишь в начале XX века (официально об этом было объявлено за границей в январе 1902 года) [13, с. 29]. Объективно, что в развитии исторического процесса не бывает вакуума. Таким образом, значительный хронологический разрыв между гибелью «Народной воли» и рождением партии эсеров тоже должен быть заполнен. Отношение эсеров к террору на всем протяжении их активной деятельности было все-таки неоднозначным и отличалось разнообразием взглядов. Подходы к вопросу террористической тактики партии эволюционизировали вместе с самой партией, они детерминировались конкретной социально-политической обстановкой в стране, обусловливались соотношением политических сил и отражали настроение общества [8, с. 140]. Разные суждения по террористическому вопросу выражались в руководстве партии, что свидетельствовало об известном плюрализме мнений в эсеровских верхах. Позиции эсеровских организаций на местах — в губерниях, городах и уездах тоже не всегда соответствовали общепартийной линии, что было в какой-то степени следствием невысокого уровня внутрипартийной дисциплины и относительной слабости влияния руководящих органов на деятельность региональных и местных организаций партии. Интенсивность террора, его практические формы и методы также изменялись на всем протяжении эсеровской истории [12, с. 126—127].
В связи с этим, на наш взгляд, тактика революционного терроризма эсеров прошла в своем развитии несколько периодов, которые можно классифицировать по самым разным критериям. Поэтому предлагаемый нами вариант является довольно условным и может рассматриваться в форме постановки проблемы, требующей, несомненно, более глубокого осмысления. В качестве основных периодов можно выделить, например, следующие: период возникновения тактики терроризма в рамках первых эсеровских групп (1894—1901 гг.), период начала терроризма и активной деятельности Боевой организации партии и преобладания центрального террора (1901—1905 гг.), период пика революционного терроризма при наибольшей активно- сти региональных террористических организаций и преобладания местного террора (1905— 1907 гг.), период спада революционного терроризма и его разложения и деградации (1907— 1911 гг.).
Обратимся к фактам. В революционном движении термин «эсеры» впервые начинает употребляться в начале 1900-х годов [13, с. 28]. Становление самой партии социалистов-революционеров было длительным и сложным процессом. Её образование происходило на основе слияния нескольких российских региональных и эмигрантских организаций, групп и кружков, стоявших как на позициях революционного народничества, так и пытавшихся трансформировать его к новым условиям российской действительности, создавая уже новую — нео-народническую платформу [7, с. 144—146]. Отношение к терроризму в этих группах, по мнению Р. А. Городницкого, было разнообразным [5, с. 29]. Одни из них оставались верны старым народническим традициям, другие возлагали надежды на создание массовой партии «революционного социализма» и смотрели на террор лишь как на дополнительное средство борьбы с самодержавием, а третьи даже были готовы от него отказаться.
Основы будущей тактики революционного терроризма эсеров формировались еще до официального объявления о создании ими партии — происходило это в рамках деятельности тех кружков, групп и организаций, которые впоследствии и генерировали новую партию. Первые группы социалистов-революционеров были основаны в 1894—1895 годах [12, с. 8]. По оценке Б. В. Леванова, главную роль в создании партии сыграли «Северный союз социалистов-революционеров», «Южная партия социалистов-революционеров», «Рабочая партия политического освобождения России» и «Аграрносоциалистическая лига» [10, с. 101]. Наиболее четко выраженную позицию в отношении терроризма имели «Рабочая партия политического освобождения России» и «Северный союз социалистов-революционеров».
Рабочая партия политического освобождения России образовалась в Северо-Западном крае в 1899 году. Эта «народническо-эсеровская» организация насчитывала в своем составе около 200 человек. Ее ядро находилось в Минске, а группы и кружки (их было около 40) — в городах Двинске, Белостоке, Бердичеве, Житомире, Екатеринославле, а также в Петербурге. Большая роль в деле ее создания принадлежит Е. К. Брешко-Брешковской, вернувшейся в 1896
году из сибирской ссылки. Она была хорошо известна как сторонница самых радикальных методов политической борьбы. Жандармы особо отмечали, что эта партия была создана при активнейшем и непосредственном участии ярого пропагандиста террора Г. А. Гершуни, который уже через пару лет после этого стоял у истоков возникновения непосредственно Боевой организации партии эсеров [6, с. 11]. В 1900 году партия выпустила в свет брошюру под названием «Свобода», которая имела программное значение. Этот документ носил ярко выраженный террористический характер. Его авторы утверждали, что только систематический террор принесёт России политическое освобождение. Подразумевалось, что заниматься им должна специальная боевая организация, что, в частности, отличало теоретиков нового подхода к терроризму от лидеров «Народной воли». Этот тезис, как известно, был впоследствии весьма успешно реализован на практике в партии эсеров созданием специализированных террористических структур.
Активно шел процесс консолидации бывших народнических элементов и в Поволжье, где в 1896 году в Саратове образовался «Союз социалистов-революционеров» во главе с А. А. Аргуновым, который сами эсеры также называли «Северным союзом эсеров», или «Севернорусским союзом». В 1897 году Союз перебрался в Москву, где в течение двух лет заводил иногородние и заграничные связи, а также налаживал партийную работу. С 1898 года «Союз» начал литературно-издательскую деятельность, выпустив несколько прокламаций и брошюр на гектографе [7, с. 145]. Программный же документ был составлен ещё в 1896 году и распространён в гектографическом виде. В 1900 году он был отпечатан за границей в виде брошюры под названием «Наши задачи». Анализ этого документа позволяет утверждать, что в его основе лежала откорректированная программа Исполнительного комитета «Народной воли». В нем, например, отсутствовала бланкистская идея захвата власти и требование созыва Учредительного собрания. В то же время была предпринята попытка наметить программу-минимум. Особо следует отметить, что главная роль в пропаганде идей социализма и борьбе с абсолютизмом отводилась социально-революционной партии. В программе не был обойден вниманием и вопрос отношения созданной организации к террористической деятельности. Систематический террор против «наиболее вредных и влиятельных» правительственных лиц призна- вался составной частью тактики будущей революционной партии.
Авторы программы утверждали, что «пользуясь таким орудием, партия рассчитывает на полный успех, так как и собранные ею силы будут иметь тогда вдвойне устрашающий характер, и всякая массовая манифестация и борьба сделается не только не рискованной, но, напротив, решающей». И не террористические акты должны поддерживать выступления рабочих, а, наоборот, «система террористических актов», поддержанных рабочими манифестациями, решит дело освобождения России. Другого выхода нет, если не верить в случайности и исходить из современных условий политического строя, считая их самопреходящими, или если не проникнуться беспечным сознанием постепенного стихийного роста русской революции, которая когда-нибудь да придет...». И далее «Наши задачи» призывают признать «неизбежность террора для всякой партии, решившей вступить в борьбу с современным самодержавием при условии, чтобы этот террор не был актом случайным, а исходил от партии, способной довести его до конца и поддержать его массовыми манифестациями. Вот, вкратце, почему в нашей программе введено требование террористической борьбы как одного из самых сильных средств разрушения самодержавия» [6, с. 8—9].
Обратимся к более позднему документу — «Манифесту партии социалистов-революционеров», относящемуся уже к январю 1901 года. Одно из первых его положений исходит из решающей роли инициативного меньшинства, то есть одного из принципов народовольцев, и гласит, что тайная организация может взять на себя решение наиболее назревших задач современности, «заменив… недостаток численной силы энергией действия». Эта энергия и должна, по мнению партии, проявить себя в терроре. В приложениях к «Манифесту» «Об основных положениях программы Союза социалистов-революционеров» дана своеобразная характеристика террора. Во-первых, «систематический террор совместно с другими, получающими только при терроре огромное решающее значение формами открытой массовой борьбы (фабричные и аграрные бунты, демонстрации и пр.) приведет к дезорганизации врага. Террористическая деятельность прекращается лишь с победой над самодержавием, лишь с полным достижением политической свободы». Во-вторых, помимо главного значения как средства дезорганизации, террор является «средством пропаганды и агитации, как формы открытой, совер- шающейся на глазах своего народа борьбы, подрывающей обаяние правительственной власти, доказывающей возможность этой борьбы и вызывающей к жизни новые революционные силы, рядом с непрерывающейся устной и печатной пропагандой». И, наконец, третья сторона террористической деятельности: для тайной революционной партии она является «средством самозащиты и охранения организации от вредных элементов — шпионства и предательства» [6, с. 9—10].
Объединительная тенденция доминировала и в эсеровской эмиграции. Там действовало немало организаций, в частности «Фонд вольной русской прессы», основу которого составляли народники-семидесятники Е. Е. Лазарев, Ф. В. Волховский, Л. Э. Шишко, Н. В. Чайковский. «Фонд» также пропагандировал терроризм.
Большой интерес исследователей представляет изданный «Фондом» в 1897 году «Летучий листок» за № 40, в котором приводятся мнения ряда заграничных революционных фракций. В нем дана оценка террора как метода политической борьбы и его историческое обоснование. «До тех пор пока самодержавие будет цепляться в России за народное невежество и совершать ежедневные и ежечасные насилия не только над отдельными личностями, но и над целой нацией, — говорилось в «Летучем листке», — террористическому принципу всегда будет в ней место. В критические моменты он будет всегда единственным возможным революционным оружием. Более того, оглядываясь назад, мы видим, что все революционные течения России, по крайней мере начиная с 60-х годов, в конце концов фатально приводились к террористическим попыткам в той или иной форме… Мы нисколько не удивимся, если нарождающееся в последние годы в России движение, разросшись в еще более широкую и глубокую народную волну, чем в 70-х годах, в конце концов также будет принуждено взяться за террористическое движение. Это было бы вполне в нравах русского самодержавия» [6, с. 9].
Таким образом, как показывает история, самодержавие разгромило только верхушку народнического айсберга — в первую очередь ее Исполнительный комитет, сама же идеология терроризма продолжала существовать, ее последователи оставались на местах и через некоторое время начали предпринимать новые попытки организационного объединения. Это привело к тому, что самой партии эсеров ещё не было, а в первых документах организаций, впоследствии вошедших в неё, уже было дано обоснование одного из доминантных элементов ее будущей тактики — революционного терроризма.
Как отмечает М. И. Леонов, в партии эсеров в целом преобладало «террористическое направление». Особенно сильным оно было среди партийной верхушки, где доминировали В. М. Чернов, М. Р. Гоц, Г. А. Гершуни, А. А. Аргунов и другие [13, с. 22].
Новый период в развитии тактики революционного терроризма эсеров открывается осенью 1901 года. В сентябре начинает создаваться особая «инициативная группа», формально не входившая в партию и ставившая своей целью совершение террористических актов [5, с. 28—29]. Позже она стала именоваться Боевой организацией партии. Во главе этой структуры встал Григорий Гершуни — один из основателей партии эсеров, и как мы уже указывали, возглавлявший до ее образования «Рабочую партию политического освобождения России», которая в 1902 году влилась в партию эсеров [6, с. 11].
Боевая организация стала основным субъектом террористической деятельности. Главной задачей организации было определено совершение террористических актов так называемого «центрального значения», а именно против наиболее значительных политических фигур, чьё убийство могло иметь большой общественный резонанс. Создавая боевую организацию, эсеровские лидеры заявили, что ее основная функция — стать «охранительным отрядом», с тем чтобы местные организации не отвлекались от главного дела для «самозащиты и обуздания насильников», поскольку разгул «несдерживаемого самодержавного произвола» переходит всякие границы и становится нестерпимым [6, с. 13]. Первоначально организация состояла из Г. Гер-шуни и привлекаемых им для совершения конкретных покушений террористов и находилась на особом положении в партии. Она была строго законспирирована. Члены Боевой организации не принимали участия в региональных комитетах партии, так же как и последние не участвовали в деятельности Боевой группы. Её отношения с Центральным комитетом партии строились через особоуполномоченного и отличались большой самостоятельностью [5, с. 56—59].
Важную роль в создании Боевой организации эсеров и утверждении тактики революционного террора сыграли также Е. К. Брешко-Брешковская, участвовавшая в революционном движении с 1873 года и считавшаяся в связи с этим «бабушкой русской революции», и член Центрального комитета эсеров, один из идеоло- гов и основателей партии, бывший народоволец А. Р. Гоц [6, с. 11].
Начало оформления теоретических основ тактики революционного терроризма эсеров происходит в начале 1902 года, в рамках уже созданной и действовавшей в нелегальных условиях партии. В январе этого года, т. е. одновременно с объявлением о создании партии, ее теоретики не преминули упомянуть и о терроризме. В январском выпуске «Революционной России» за № 3 была опубликована статья «Неотложные задачи», где высказывание о терроре, по мнению О. В. Будницкого, было достаточно неопределенным: «…Пункт о терроре может и должен, при известной формулировке, войти в общую программу партии… Признавая в принципе неизбежность и целесообразность террористической борьбы, партия оставляет за собой право приступить к ней тогда, когда, при наличии окружающих условий, она признает это возможным» [1, с. 134].
Впоследствии один из лидеров партии В. М. Чернов подчеркивал, что эта статья была напечатана с целью предотвратить распад еще слабых партийных элементов, часть которых не признавала террор как метод, как форму политической борьбы [6, с. 13—14].
2 апреля 1902 года состоялся первый эсеровский террористический акт — покушение на министра внутренних дел Д. С. Сипягина. Так было положено начало применению тактики терроризма на практике. Этим же покушением впервые заявила о себе и Боевая организация [6, с. 12]. Добровольцем-исполнителем стал бывший студент Степан Балмашев. Переодетый в адъютантскую форму, он явился в приемную министра и представился посланцем великого князя Сергея. Вручив министру пакет с приговором Боевой организации, террорист дважды выстрелил в Д. С. Сипягина, смертельно ранив его. На следующий день, 3 апреля, у Балмашева был день рождения — ему исполнился 21 год [5, с. 41].
После этого «успеха», выждав небольшую паузу и дождавшись реакции общества, партия заявила о терроре открыто, а позиция руководства стала более конкретной — была выпущена прокламация, в которой нашло отражение мнение лидеров партии по террору [11, с. 128].
Тогда же, в 1902 году, эсеры продолжили свои теоретические изыскания в области терроризма. Учитывая, что в партии до Первой русской революции отсутствовали официально принятые программа и устав партии, то основным концептуальным документом, отразившим этот выбор тактики, можно считать статью В. М. Чернова «Террористический элемент в нашей программе», которая была опубликована в главном печатном органе партии — газете «Революционная Россия» в июне 1902 года (№ 7). Статья указывала на «необходимость и неизбежность» террора как средства самозащиты в условиях, когда «разгул ничем не сдерживаемого самодержавного произвола переходит всякие границы и становится нестерпимым» [14, с. 145].
Особо подчеркивалось: «Мы первые будем протестовать против всякого однобокого использования терроризма. Отнюдь не заменить, а лишь дополнить и усилить хотим мы массовую борьбу смелыми ударами боевого авангарда». Постоянным и основным делом партии объявлялось «революционизирование масс», а террор представлялся одним из «временных, преходящих технических средств, за которое мы боремся отнюдь не ради его самого, а лишь исполняя тяжелый долг, вытекающий из трижды тяжелых условий современной русской жизни» [6, с. 13].
Накануне Первой русской революции Боевая организация под руководством Е. Ф. Азефа по сути оказалась единственной крупной работоспособной структурой партии. Очередным ее большим «успехом» явилось убийство 15 июля 1904 года членом Боевой организации Егором Сазоновым министра внутренних дел В. К. Плеве [5, с. 96]. В канун революции в организации произошла реформа. К декабрю 1904 года завершилось окончательное оформление трёх отделов: московского, петербургского и киевского. Каждое из образовавшихся подразделений имело своей главной задачей ликвидацию главы местной администрации. Московский отдел возглавил Б. В. Савинков, петербургский — М. И. Швейцер, киевский — Д. Ж. Боришанский. В конце 1904 года эсеры приняли решение о покушении на великих князей Сергея Александровича и Владимира Александровича, петербургского генерал-губернатора Д. Ф. Трепова и киевского генерал-губернатора Н. В. Клейгельса. 4 февраля 1905 года боевик московского отдела Иван Каляев бросил в Кремле бомбу в карету московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, который был убит [5, с. 101—102].
Исполнитель террористического акта был схвачен и 5 апреля осужден Особым Присутствием Правительствующего Сената. В ночь на 10 мая его казнили. Так начался для эсеров 1905 год. Как оказалось впоследствии, этот террористический акт стал последним крупным успехом Боевой организации. В ночь на 26 февра- ля в столичной гостинице «Бристоль» трагически погиб в результате случайного взрыва снаряжаемой им бомбы руководитель питерских боевиков Максимилиан Швейцер. Организация потеряла одного из самых ценных своих участников и крупного специалиста по подрывному делу. Однако главный удар по петербургским террористам был нанесён чуть позже. 16 и 17 марта полицейским ведомством были арестованы почти все члены петербургского отдела, готовившие покушение на губернатора Д. Трепова, что фактически означало полный разгром всей Боевой организации. На свободе из всех значимых ее членов остались только Е. Ф. Азеф, М. Р. Гоц, Б. В. Савинков и Д. В. Бриллиант. Остальные члены организации были еще не испытаны и не готовы к террористическим предприятиям. Аресты произошли также и в Москве.
Впоследствии Боевая организация уже никогда не достигала такой силы и такого значения, как в промежуток времени от 15 июля 1904 до февраля 1905 года. Как показала дальнейшая практика революционного терроризма, события весны 1905 года оказались поворотным пунктом в истории этой группы.
Боевая организация за все годы своего существования совершила всего 11 террористических актов (менее 5 % от общего числа террористических предприятий эсеров): до революции 1905—1907 гг. — 4, в годы революции — 5 (один из них — убийство провокатора Татарова), после окончания революции, во второй половине 1907 года — 2 [13, с. 24].
Первая русская революция внесла существенные коррективы в тактику эсеров. Во много раз выросли масштабы деятельности партии. Изменился и характер терроризма. До революции он велся в первую очередь Боевой организацией и направлялся против высокопоставленных чиновников — были убиты два министра и два губернатора. В ходе революции терроризм приобрел децентрализованный характер. Он широко использовался региональными и местными организациями партии в основном против представителей власти среднего и низшего звена, жандармов, полицейских и военных.
Вопреки широко распространённому мнению о том, что террористическая деятельность партии эсеров осуществлялась прежде всего её Боевой организацией, основная масса террористических актов была совершена боевыми структурами именно местных и региональных организаций партии.
Работа по созданию этих новых субъектов террористической деятельности началась за- долго до революции. Первые партийные боевые дружины в регионах стали возникать еще в 1903 году. Пионером в этом деле явилась СевероЗападная область, где в том же году были организованы два покушения: 14 октября в Берди-чеве был ранен помощник пристава Кулишов, а 31 октября в Белостоке — полковник Метленко [11, с. 128]. Терроризм, таким образом, приобретал все большее, а затем и самодовлеющее значение — он перекинулся в губернии, города и уезды империи. Начался так называемый местный террор. В ходе революции процесс образования эсеровских боевых дружин и отрядов различного уровня приобретает лавинообразный и во многом стихийный характер. Подавляющее большинство боевых дружин возникало по инициативе местных организаций и им же было подотчетно. Боевые, или, как они часто назывались, летучие отряды при областных комитетах и террористические боевые дружины при самых крупных губернских комитетах действовали под непосредственным партийным контролем, так же как и центральный боевой отряд. Проведённые исследования свидетельствуют, что о планомерности этого процесса или о серьёзном контроле сверху, регламентированности прав и обязанностей их членов сегодня всерьёз говорить не приходится. Впрочем, в условиях взрывоподобного роста партии, разгоревшейся революции, раскованности инициативы и при демократическом характере отношений между партийным центром и периферией подобное положение было вполне закономерным. Многократные попытки руководства партии были направлены в годы революции не столько в сторону установления полного контроля над местными организациями и их боевыми дружинами, что было, видимо, абсолютно нереально, сколько в сторону хотя бы некоторого ограничения порочной практики частных экспроприаций и «безответственных» террористических актов, от которых гибли невинные люди.
На годы революции 1905—1907 гг. приходится пик революционного терроризма эсеров, по оценке М. И. Леонова, — 78,2 % всех совершенных ими террористических актов [12, с. 23]. С 1 января 1905 по 31 декабря 1907 года, по подсчетам Д. Б. Павлова, было совершено 233 теракта, из них до 3 июня 1907 года — принятой в исторической литературе дате окончания революции — 220 покушений. Жертвами терроризма эсеров стали 242 человека, из которых было убито 162 и ранено 80 человек [14, с. 149]. Таким образом, можно согласиться с мнением О. В. Будницкого о том, что терро- ризм являлся одним из важнейших компонентов революции [3, с. 28].
Одним из районов жесточайшего терроризма эсеров в годы революции стало, в частности, Поволжье, где очень активно действовал летучий отряд Поволжской области и местные боевые дружины. Вот лишь некоторые из наиболее громких террористических актов в этом регионе. В Саратове 22 ноября 1905 года был убит генерал-адъютант В. В. Сахаров — усмиритель крестьянских беспорядков в губернии, в Самаре 23 июля 1906 года — губернатор И. Л. Блок — дядя известного русского поэта. В Пензе были убиты начальник местного гарнизона генерал-лейтенант В. Лисовский, а 25 января 1907 года — губернатор С. С. Александровский. В Симбирске 21 сентября 1906 года боевики летучего отряда Поволжской области смертельно ранили губернатора К. С. Старынкевича [9, с. 60—64].
С 1908 года начинается резкий спад террористической активности эсеров: теракты становятся крайне редкими, единичными. Местный терроризм, по мнению исследователей, стал «мельчать» и «вырождаться» [1, с. 183]. По данным М. И. Леонова, в 1908 году было совершено 3 покушения, в 1909 году — 2, в 1910 году — 1 и в 1911 году — 2 [13, с. 23]. Эпоха российского революционного терроризма клонилась к своему закату. Террористические структуры партии либо оперативно уничтожались жандармами и полицией, либо сами деградиро-вались или распадались.
В заключение отметим, что терроризм является одной из трагических реалий общественно-политического процесса современной России. Оценки текущих вызовов и угроз безопасности государства, высказываемые в официальных заявлениях, представляют эту разновидность политической борьбы как серьезную угрозу не только для жизни наших соотечественников, но и для общей стабильности российского социума. Можно предположить, что террористическая тактика групп и организаций различных направлений может оказаться фактором дестабилизации жизни как в отдельных регионах, так и в стране в ближайшей перспективе. Естественно, что каждое государство, столкнувшееся с проблемой терроризма, заинтересовано в эффективной борьбе с ним. Сегодня видится вполне объективным, что полное или хотя бы частичное исключение терроризма из жизни общества предполагает выполнение ряда как общих, так и частных условий. Одним из них, как нам представляется, может стать изучение имеющегося опыта прошлого при воз- никновении подобных сложных явлений, так как история, как никакая другая наука, способна дать правильные рецепты избавления от многих социальных недугов современности, в том числе и такого тяжелого, как терроризм.
-
1. Будницкий О. В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX — начало XX века). М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000.
-
2. Будницкий О. В. А. Гейфман. Убий: революционный терроризм в России. 1894—1917. Принстон, 1993. XII // Отечественная история. 1995. № 5. С. 185—189.
-
3. Будницкий О. В. Терроризм и террористы // Знание — сила. 2005. № 1. С. 28—29.
-
4. Гейфман А. Революционный террор в России, 1894—1917 гг. М. : КРОН-ПРЕСС, 1997.
-
5. Городницкий Р. А. Боевая организация партии социалистов-революционеров в 1901—1911 гг. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1998.
-
6. Гусев К. В. Рыцари террора. М. : Луч, 1992.
-
7. Еремин А. И. Так начиналась партия эсеров // Вопр. истории. 1996. № 1. С. 144—146.
-
8. Жуков А. Ф. Индивидуальный террор в тактике мелкобуржуазных партий в Первой российской революции // Непролетарские партии России в трех революциях : сб. ст. М. : Наука, 1989.
-
9. Карнишин В. Ю. Общественно-политический процесс в Поволжье в начале XX века. Пенза : Изд-во Пензенского гос. техн. ун-та, 1996.
-
10. Леванов Б. В. Программные принципы партии социалистов-революционеров // Вопр. истории КПСС. 1991. № 6. С. 100—109.
-
11. Леонов М. И. Партия социалистов-революционеров в 1905—1907 гг. М. : РОССПЭН, 1997.
-
12. Леонов М. И . Эсеры в революции 1905—1907 гг. Самара, 1992.
-
13. Непролетарские партии России. Урок истории. М. : Мысль, 1984.
-
14. Павлов Д. Б. Из истории боевой деятельности партии эсеров накануне и в годы Первой революции 1905—1907 гг. // Непролетарские партии России в трех революциях : сб. ст. М. : Наука, 1989.
Список литературы Революционный терроризм партии эсеров: возникновение и периодизация
- Будницкий О. В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX -начало XX века). М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000.
- Будницкий О. В. А. Гейфман. Убий: революционный терроризм в России. 1894-1917. Принстон, 1993. XII//Отечественная история. 1995. № 5. С. 185-189.
- Будницкий О. В. Терроризм и террористы//Знание -сила. 2005. № 1. С. 28-29.
- Гейфман А. Революционный террор в России, 1894-1917 гг. М.: КРОН-ПРЕСС, 1997.
- Городницкий Р. А. Боевая организация партии социалистов-революционеров в 1901-1911 гг. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1998.
- Гусев К.В. Рыцари террора. М.: Луч, 1992.
- Еремин А. И. Так начиналась партия эсеров//Вопр. истории. 1996. № 1. С. 144-146.
- Жуков А. Ф. Индивидуальный террор в тактике мелкобуржуазных партий в Первой российской революции//Непролетарские партии России в трех революциях: сб. ст. М.: Наука, 1989.
- Карнишин В. Ю. Общественно-политический процесс в Поволжье в начале XX века. Пенза: Изд-во Пензенского гос. техн. ун-та, 1996.
- Леванов Б. В. Программные принципы партии социалистов-революционеров//Вопр. истории КПСС. 1991. № 6. С. 100-109.
- Леонов М. И. Партия социалистов-революционе-ров в 1905-1907 гг. М.: РОССПЭН, 1997.
- Леонов М. И. Эсеры в революции 1905-1907 гг. Самара, 1992.
- Непролетарские партии России. Урок истории. М.: Мысль, 1984.
- Павлов Д. Б. Из истории боевой деятельности партии эсеров накануне и в годы Первой революции 1905-1907 гг.//Непролетарские партии России в трех революциях: сб. ст. М.: Наука, 1989.