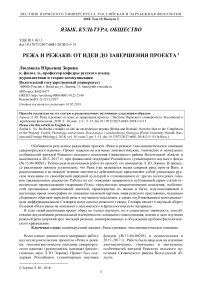Режа и режаки: от идеи до завершения проекта
Автор: Зорина Людмила Юрьевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 2 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Обобщаются результаты реализации проекта «Режа и режаки: этнолингвистическое описание севернорусского идиома». Проект нацелен на изучение лингвистических, этнических и ментальных особенностей жителей Режского сельского поселения Сямженского района Вологодской области и выполнялся в 2015-2017 гг. при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (№ 15-04-00205). Руководила выполнением работ по проекту его инициатор Л. Ю. Зорина. В процессе реализации проекта установлено, что Режа (так называется малая северная река, приток Ваги, и расположенная в ее нижнем течении местность) действительно представляет собой уникальное русское поселение со своеобразной народной культурой и отличающимся от других вологодских говоров традиционным диалектом. Работы по его описанию завершаются публикацией серии статей относительно происхождения гидронима Режа, относительно микротопонимии поселения, особенностей прозвищных наименований жителей, характеристик их жизни и быта, подготавливаемой в настоящее время монографии по описанию языковой картины мира режского крестьянина, изданным сборником образцов народной речи в изучаемом поселении, а также опубликованным монодиалектным дифференциальным Словарем вологодского режского говора. Словарь вводит в научный оборот большой объем ранее не описанного лексического и фразеологического материала. В ходе своей реализации проект обрел не только научную, но и социальную значимость, способствовал актуализации региональной идентичности, локального самосознания, вовлек в дело изучения режской речи широкий круг жителей региона, заинтересованных в обсуждении проблем филологического краеведения.
Севернорусский диалект, режа и режаки, этнолингвистическое описание
Короткий адрес: https://sciup.org/147226904
IDR: 147226904 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.17072/2037-6681-2018-2-5-15
Текст научной статьи Режа и режаки: от идеи до завершения проекта
Вологодские диалектологи завершают работу над исследовательским проектом «Режа и режаки: этнолингвистическое описание севернорусского идиома» (руководитель кандидат филологических наук Л. Ю. Зорина). Проект был поддержан Российским гуманитарным научным фондом (№ 15-04-00205) и осуществлялся в 2015–2017 гг. Работа была нацелена на изучение лингвистических, этнических и ментальных особенностей жителей Режского сельского поселения Сямженского района Вологодской области.
Описание Режского поселения
Режское поселение Сямженского района Вологодской области (ранее – Режский сельсовет) расположено в нижнем течении малой северной реки Режи, притока Ваги. Длина русла Режи составляет всего 27 км. Деревни Бурниха, Гридино, Колтыриха, Копылово, Коробицыно, Марково, Монастырская, Рассохино и другие компактно расположены на протяжении примерно 13 км.
В исторических источниках Режа (так обычно по названию реки называется и вся эта местность) и ее центр, деревня Монастырская, упоминаются с XVI в. [Колесников 1971: 101–102]. Это позволяет говорить о многовековой истории изучаемого севернорусского идиома. Из-за удаленности и изолированности от административных и культурных центров эта территория в разное время относилась к разным районам Вологодской области. Властным структурам сложно было брать на себя ответственность за эту удаленную местность и населявших ее людей – радио как благо цивилизации появилось здесь только в 1957 г.
В конце XX в., в 80-е его гг., когда диалектологи Вологодского педагогического института начали проводить наблюдения над говором Ре-жи, местность была густонаселенной (здесь проживало около 4000 человек), значительную часть населения составляли люди, родившиеся в самом начале XX в. Дорога сюда все еще была плохой. Сельские жители редко выезжали за пределы своего сельсовета и поэтому последовательно сохраняли в речевой практике традиционные особенности местного говора.
История изучения говора Режи
Диалектологические экспедиции в деревни Режского сельсовета проводились с небольшими перерывами с 1983 по 2015 г. Пребывание диалектологов в Реже иногда было весьма продолжительным: ежегодно 4 недели в июле и 4 недели в сентябре. В отдельные годы проводились и августовские экспедиции преподавателей, студентов и аспирантов Вологодского педагогического института. Руководителем диалектологических экспедиций была автор данного материала. Основными исполнителями работ по настоящему проекту согласились стать профессор Е. Н. Ильина, доценты Е. П. Андреева, Е. Н. Иванова, Н. В. Комлева и студентка филологического факультета Вологодского государственного университета Д. В. Глебова.
В ходе проведенной работы был зафиксирован традиционный, к настоящему времени уже почти утраченный, режский говор. Оцифрованные записи народной речи (свыше 30 часов зву- чания), обширная картотека местных слов (более 20 тыс. карточек), большое количество студенческих выпускных квалификационных работ ярко отражают особое мироустройство и менталитет жителей данной местности. Здесь до недавнего времени сохранялась курная изба, бани строились «по-черному», существовала традиция мытья в русской печи, фиксировался архаичный обычай «перепекания ребенка», было заметным своеобразие деревенского костюма, ощущались особенности в коммуникативном поведении людей.
К настоящему времени население Режи сократилось до 200 человек, само поселение включено в состав более крупного Ногинского сельского поселения. Однако в рамках проекта удалось в максимально короткие сроки осуществить многостороннее изучение и описание специфических черт жизни традиционной деревни в данной местности и ее говора. Конкретный говор Вологодской группы севернорусского наречия впервые был подвергнут монографическому описанию, что доказывает актуальность проекта «Режа и режаки».
Применение классических, многократно опробованных методик описания говора, его топонимической и антропонимической систем в сочетании с инновационной методикой изучения отраженной в лексике говора уникальной диалектной картины мира обусловило высокий уровень фундаментальности исследования.
Новизна проекта, помимо сочетания актуальных методических установок, была обеспечена тем, что в научный оборот введен большой объем ранее никогда и никем не описанного диалектного материала, собранного в полевых условиях: значительный корпус диалектных слов, фразеологизмов, паремий, в том числе архаических, не отмеченных на других территориях, специфичных в национально-культурном отношении.
За годы реализации проекта «Режа и режаки» коллективом исполнителей была проведена значительная работа. В ходе исследования подтверждено, что Режа – это уникальное поселение со свойственной ему самобытной народной культурой и заметно отличающимся от других вологодских говоров колоритным диалектом.
В ходе исследования оцифрованы материалы режских диалектологических экспедиций (аудиозаписи, многочисленные фотографии, дневники студенческих диалектологических экспедиций и др.); усовершенствована картотека режского говора; проведена лексико-семантическая и грамматическая систематизация материала; осуществлено моделирование и редактирование пробных словарных статей; с целью дообследования говора в 2015 г. проведена диалектологическая экспедиция в деревню Монастырская и др.
В итоге осуществления проекта произведена попытка этимологизации гидронима Режа [Вар-никова 2016: 354–359]; составлена и опубликована в виде главы монографии характеристика режского говора [Зорина 2015: 28–39]; опубликована так называемая «режская глава» – «Описание говора Режского поселения Сямженского района в контексте изучения речевой культуры Вологодского края» [Народная речь 2015: 9– 110]; опубликована монография с аудиоприложением [Режские тексты 2016]; издан Словарь вологодского режского говора [Словарь 2017]; напечатана серия статей относительно режской диалектной картины мира. В опубликованных статьях описаны система микротопонимов изучаемой местности, система неофициальных именований жителей, фразеологическая и паремио-логическая системы говора, система ономатопов в режском говоре, группа слов, обозначающих детей, группа наименований выпечных изделий, группа наименований пищи; проанализированы слова с архаическими корнями; частично опубликованы дневниковые заметки режской диалектологической экспедиции и др.
Помимо основных исполнителей работ по гранту «Режа и режаки», к реализации проекта подключились и другие преподаватели кафедры русского языка ВоГУ. Так, по проблематике гранта опубликованы статьи Е. Н. Варниковой [Варникова 2016: 354–359], Т. Г. Овсянниковой [Овсянникова 2015: 50–55], Т. В. Парменовой [Парменова 2015: 55–74], Г. В. Судаковым [Судаков 2016: 104–107], Л. Г. Яцкевич [Яцкевич 2015: 10–23].
Проведение работ по гранту РГНФ «Режа и режаки» совпало с мощным общественным движением по восстановлению разрушенного в 30-е гг. XX в. храма Преображения Господня в деревне Монастырской. Объединению режаков способствовали, в частности, возможности Интернета. Так, в социальных группах «Режа» и «Ремонт храма Преображения Господня» сосредоточены и теперь стали доступны широкому кругу пользователей многочисленные историкокраеведческие материалы относительно Режи. Общение с пользователями социальной сети «ВКонтакте» позволило в процессе работы оперативно уточнять значения слов и грамотно интерпретировать их в Словаре вологодского реж-ского говора. Проект «Режа и режаки» вызвал также большой интерес в регионе, о чем свидетельствует неоднократное размещение информации о нем в местных средствах массовой информации.
Таким образом, фундаментальный научный проект «Режа и режаки: этнолингвистическое описание севернорусского идиома» обрел не только научную, но и социальную значимость, способствовал актуализации региональной идентичности, локального самосознания, вовлек в дело изучения режской речи широкий круг жителей региона, заинтересованных в обсуждении проблем филологического краеведения.
Оценивая итоги проекта, необходимо отметить положительную динамику в его реализации. Если в первый год выполнения работ было проведено экспедиционное дообследование говора и из написанных исполнителями работ по гранту статей составлена так называемая «режская глава», то во второй год уже была опубликована монография с расшифровками звучащей речи. Третий год завершился изданием объемного Словаря вологодского режского говора, эксплицирующего основные тематические группы лексики бытовой и духовной культуры, позволяющего реконструировать локальную картину мира, а это создало задел для еще одной монографии.
Топонимия Режи
При характеристике содержательной стороны проведенного исследования в первую очередь следует показать, что стало теперь известно о происхождении самого гидронима Режа. В статье Е. Н. Варниковой [Варникова 2016: 354–359] рассматривается его семантика, приводятся разные версии его происхождения, определяется связь гидронима с местным географическим термином реж(а) , режма.
Гидроним не отмечен в известных топонимических словарях, по-видимому, не только по причине затемненности его этимологии, но и в связи с относительно небольшим размером и ма-лоизвестностью именуемого им водотока. При интерпретации гидронимов, сопоставимых с сямженским Режа , исследователи соотносят их с местным географическим термином реж(а) , режма , но объясняют его значение и происхождение по-разному.
По мнению А. Л. Шилова [Шилов 1999: 88– 93], русский термин режма имеет саамское происхождение: «перспективным видится сравнение с саам. * ressam ‘начало, исток; источник’ или * resma ‘начинающая’. Следовательно, рус. режма могло означать ‘речку, берущую начало в источниках’, что существенно, если малая река используется в летнюю межень на водноволоковом пути». Сямженская Режа действительно вытекает, как установлено экспедициями местных учителей и школьников, из небольшого источника.
Другая, «путевая» версия названия Режа приводится в Словаре гидронимов Вологодской области А. В. Кузнецова. Автор сопоставляет, как пишет Е. Н. Варникова, названия двух рек, текущих на территории Сямженского района Вологодской области, – Режи , впадающей в Вагу , и Бохтюги , относящейся к бассейну другой крупной реки в Вологодском крае – Кубены ( Бохтюга – правый приток Шиченьги , правого притока Сямжены , левого притока Кубены ) [Кузнецов 2010: 182]. В словарной статье «Бохтюга, Вохтю-га» А. В. Кузнецов высказывает предположение о том, что «волок с верховьев сямженской Бо-хтюги вел к истокам реки Режи, левого притока Ваги. Таким образом, данный потамоним служил индикатором важного в древности водноволокового пути из бассейна Кубены в бассейн Северной Двины» [там же: 26].
В статье «Режа» автор словаря, руководствуясь, по-видимому, этим предположением или высказанным ранее мнением А. Л. Шилова, допускает, что диалектный термин реж , режма , лежащий в основе гидронима, «в древности использовался для обозначения рек, ведущих в другую речную систему. В данном случае от истока Режи сухопутный волок вел на реку Бохтю-гу, название которой, по одной из версий, переводится как «волоковая река» [там же: 182].
Таким образом, считает Е. Н. Варникова [Вар-никова 2016: 354–359], существуют две версии происхождения термина реж(а) , режма – русская и финно-угорская. Очевидно, в этом случае было бы правильнее говорить об омонимии этимологически разных терминов. Не является ли вариативность режма , режа , отмеченная СлРЯ XI–XVII вв., результатом их сближения и взаимодействия? В их семантике, как было показано ранее, выделяется и общий компонент ‘источник’. Впрочем, значение режма , реж(а) , как справедливо отметил А. Л. Шилов, требует значительного уточнения. Это очень важно для трактовки гидронимов оттерминологического образования. Поиск истины в отношении гидронима Режа продолжается.
Тем не менее представления о малой вологодской реке Реже и ее особенностях пронизывают всю жизнь людей, проживающих по ее берегам, и отпечатываются в их сознании как разноплановые представления о реке большой и значительной. В статье Л. Ю. Зориной [Зорина 2015б: 26] отмечено, что жители Режи с гордостью говорят о том, что их река впадает в большую и важную в экономическом отношении реку Вагу, часто говорят о характере Ваги: Режа пала в Вагу; Вага Вель перешибла да и дале потекла.
Хозяйственная деятельность на реке Реже традиционно состояла в использовании ее вод для лесосплава, в обеспечении работы мельниц, в применении для обеспечения жизнедеятельности людей и домашних животных. До недавнего времени местные жители еще предпочитали использовать для питья воду именно из реки Ре-жи, считали, что она лучше опошной, сильно минерализованной колодезной воды.
Река Режа характеризуется в говоре с разных сторон: по наличию топких мест: Как по Ваге-то идёшь, в Вагу-то впадают ключи. Настолькё топкое место, что не пройдёшь. Коровы-то даже садЯцце, вынимать их ездят ; по характеру течения: Режа-то тутока у нас перебористая, а дальше впадает в Вагу ( перебористый - ‘изобилующий донными перепадами’); по скорости течения: Судорога - это вода крутится и плывёт по реке ( судорога - ‘бурлящий речной поток’); по наличию опасных, скрытых водой включений в русле реки: Есть места, где река колодники вымывает, эдак деревья под грунтом и др.
Когда-то река Режа была богата рыбой: Когда выташшым бредник, рыбы аж кипит нани. Не случайно в говоре достаточно полно представлена рыболовецкая лексика. Отдельные слова восходят к праславянскому языку: например, ез ‘рыболовецкая запруда’, ботало ‘шест, ударами которого по воде вспугивают рыбу и загоняют ее в сети’. Показательно, что рыболовецкие термины встречаются и в составе фразеологизмов: как на езу бьёт (кого) ‘о том, что кто-либо дрожит от холода’ . Другие слова носят субстратный характер, например: морда ‘сплетенный из прутьев или толстых ниток рыболовный снаряд в форме конуса’, курьЯ ‘глубокое место в реке, омут; заводь, залив’, меева ‘мелкая рыба’ являются финно-угорскими по происхождению. Диалектные режские наименования рыб отличаются выразительностью, образностью: горбач ‘окунь’, семиглазка ‘рыба, имеющая семь пар жаберных щелей; минога ручьевая’, шараня ‘пескарь’ и др.
Некоторые реалии деревенской жизни именуются в режском говоре исключительно через представления о реке. Так, речница, бережина -это ‘трава, которая растет по берегу реки или на ее островках’. Через призму речных реалий в говоре осуществляется и характеристика человека: рЫбницей, например, называют любительницу есть рыбу.
Микротопонимия Режи
В рамках проводимого исследования была предпринята попытка описать микротопонимиче-скую подсистему говора [Иванова 2015: 74–79]. Установлено, что часть микротопонимов Режи возникла на базе диалектизмов финно-угорского происхождения: Сохра, поле, Пендуска, река, Пендуски, покос. Большинство изученных микротопонимов – славянские образования. Как известно, древнейшие миграции славян на территорию края шли в двух направлениях – с запада (Новгородская республика) и с юга (РостовоСуздальская земля). На территории Режского поселения зафиксированы микротопонимы с продуктивным формантом -иха, занесенным колонизацией из центральных районов Московского государства: Богданиха, поле, Данилиха, покос, Согнутиха, поле и т. д. Следы колонизации из Новгородской земли отражает топоформант -щин(а): Филатовщина, покос.
Микротопонимы Режи отражают социальную историю региона, дают представление о хозяйственной деятельности жителей. На широкое распространение в Реже лесного и дегтярного промыслов указывают географические названия Дектярня, поле, Лёвин бревенник , покос. В микротопонимии Режи частотны названия сенокосных и пашенных угодий, возникшие в результате онимизации терминов подсечно-огневого земледелия: Чистенье, покос, Палевая / Паль, покос, ВЫтлевка / ВЫтлевки, покос и т. д. Многочисленность микротопонимов данной группы свидетельствует о том, что в Реже подсечноогневое земледелие сохранялось вплоть до начала XX в.
Сельскохозяйственные угодья обычно являлись собственностью семьи: Комарица Головят, Филят токовица, Елисят полянка, Коровкинцев ляжка . На совместное использование сенокосных угодий указывают микротопонимы Вобчая полянка , Общий пенник . Таким образом, в микротопонимии отражаются социальные отношения северной деревни.
Исследование микротопонимов позволило, как считает Е. Н. Иванова [Иванова 2015: 74–79], выявить некоторые особенности мировосприятия, психологии жителей Режи. Микротопонимия свидетельствует об образности, метафоричности мышления носителей режского говора: Кошелёво , покос (по форме похож на кошель), Сахарница, покос (с хорошей травой), Черногу-зиха, покос, ФедЮхин хвост, покос (по форме напоминает хвост) и др.
Антропонимия Режи
В рамках проекта были проанализированы записанные в Реже прозвища ее жителей [Комлева 2015: 79–93; Комлева 2016: 392–395]. Выяснено, что в диалектном языковом пространстве Реж-ского сельского поселения функционируют про-звищные номинации, являющиеся средством идентификации отдельной личности (индивидуальные прозвища - Копейка ‘человек некрупного телосложения’, Пестерь ‘полный человек’, Седун ‘ребенком не ходил до семи лет’); группы лиц – членов одной семьи, рода (релятивные прозвища, уличные фамилии - Ванчелята ‘дети Ивана, Ван-чила’, Иринёхонцы ‘дети Иринея’, Чижихинцы ‘прозвище людей с фамилией Чижовы’); а также жителей отдельных населенных пунктов (коллективные прозвища - Магазейники ‘жители деревни, где была магазея ’, Чернотропики ‘жители д. Марково: избы раньше топились по-черному, поэтому следы на снегу были черными’).
Индивидуальные прозвища, составляющие половину общего количества неофициальных антропонимов Режи, возникают на основе экстралингвистической мотивации. Кроме идентифицирующей функции, они обладают функцией характеризации лица, так как имеют коннотативную окраску на лексическом или словообразовательном уровне. Апеллятивные основы индивидуальных прозвищ представляют собой лексику как общерусскую, так и локальную, фиксируемую в Вологодской группе говоров ( брила , бухарь , долбило , колобан , колЫш , комель , кулес , литовка , пестерь , смолёвый , сумёрзлый и др.).
В говоре Режи достаточно высокой активностью характеризуются релятивные прозвища, образованные от личного имени или прозвища матери (иногда и бабушки), что в принципе не является типичным для антропонимов данного типа: Марфёнок < Марфа, Фаининец < Фаина и от деминутивов: Катюшонок < Катя (Екатерина), Лисинец < Лиса (Елизавета), НастЮхинец < Настюха (Анастасия), ОвдЮхинец < Овдюха (Авдотья), Паранинец < Параня (Прасковья). Реля-тивы служили основой для создания семейных прозваний, которые, в свою очередь, стремились иметь мужское именование, и только особые обстоятельства ставили во главу семьи женщину. Возникновение в массовом количестве релятивных прозвищ и тем более уличных фамилий от женских антропонимов говорит о неблагополучии внутри семьи – об отсутствии в ней по разным причинам мужчины, кормильца. Объяснение этого явления, вероятно, следует усматривать в сложившейся в России конца 80-х – начала 90-х гг. социально-экономической ситуации.
Все виды неофициальных режских антропонимов создаются в основном по продуктивным как в литературном языке, так и в вологодских говорах словообразовательным моделям. Формант -ёнок / -ят(а) (восходящий к праславянско-му -ent со значением детенышей живых существ) в антропонимах патронимического типа реализует разрядное значение принадлежности / проис- хождения. Следы этого, новгородского по происхождению, структурного типа в говорах некоторых районов Вологодской области свидетельствуют о былой миграции ильменских славян на территорию Вологодского края.
В диалектном онимиконе Режи обнаруживается использование в качестве прозвищ самих личных имен. К индивидуальным прозвищам в диалектном языковом континууме оказываются близки деминутивы и гипокористики личного имени, образованные по особым словообразовательным моделям, нетипичным для городской среды: Ванчело, Лазунька, Надежка и др. В большинстве случаев деминутивы от полной формы имени в режском говоре лишены коннотативной окраски. В тех случаях, когда контекст позволяет установить наличие экспрессии или оценки, статус такого деминутива изменяется – формируется другой вид неофициального антропонима – индивидуальное прозвище. Полностью процесс перехода в прозвище завершается, пишет Н. В. Комлева [Комлева 2016: 392–395], в том случае, когда степень коннотации имени настолько высока, что позволяет ему оторваться от одного носителя (для которого это имя было единственным, по документам) и переходить к другому лицу: Манефа - прозвище женщины по имени Александра, которая, как и некая Манефа (прозвище умершей женщины), была косоглазой.
Особенности режского говора
Особенности режского говора представим фрагментом его записи: Бацярухой ранше-то называли, ранше не куфарка. Бацяруха обряжа-ецце, всё цисто делает. Ей толькё бегай бегом да обряжайсе. Встану в пять цясов да всё время бацерницяю. ЦЯю выпью. Мне некогда, я не хоцЮ разъедацця. Устанешь. Уварицце суп-то, дак там как закипело, возьму да в блюдецькё накрошу крошенины да нахлебаюсь. И пекёт, и варит, и скота обряжает - всё бацеруха. Бацерухи, говорят. Ой, христовы женшшыны! Берёт таким кочям, наперёд кладёт ношу!
Выявленные особенности режского говора в его традиционном слое свидетельствуют о том, что говор жителей этой местности относится к типичным говорам Вологодской группы севернорусского наречия, а именно к говорам центральной их части [Зорина 2017: 105–119]. В пользу этого вывода свидетельствуют особенности реализации звука на месте древнего гласного, обозначавшегося буквой «ять» (лес, но в лисе), произношение звука [э] в соответствии с фонемой <а> между мягкими согласными (каце-лись), мягкое цоканье (цяшка, косиця), произношение l-европейского и его реализация в слабой позиции в ў-неслоговом; прогрессивная ассимиляция (Васькя, толькё, Шейгя); употребление форм дедушко, парнишко по образцу 2-го склонения, а слов 3-го склонения: в пече, на мазе, на осыпе - с окончаниями 1-го склонения; совпадение окончаний творительного падежа множественного числа с окончаниями дательного падежа (за грибам, за Ягодам), сохранение старинного плюсквамперфекта (бывали башмаки шили), особенности синтаксиса (Они понадеявшись, что, может, не наши - деепричастие в функции сказуемого; Молодёжь-то подкупают избу и гулЯют - смысловое согласование; Топерь никто и встаёт рано - одно отрицание; На реке-то ушат-от - много видёр-ту - обильное употребление постпозитивных частиц), употребление слов помлить, тарка, туес и мн. др.
Общение с людьми разного возраста, разного уровня образования показало, что в говоре весьма значительно варьирование фактов. Оно обусловлено как самой изменчивостью, подвижностью системы диалекта, так и причинами экстра-лингвистического характера. Тем не менее выявленная картина весьма цельна и специфична.
Лексические группы режского говора
В итоге реализации проекта «Режа и режаки» составлено описание ряда лексических групп режского говора.
Важной составной частью лексического фонда режского говора является лексика народной метеорологии. Она в рамках проекта описана Е. Н. Ивановой. Ею установлено, что метеонимы Режи свидетельствуют об образности мышления носителей этого говора. Внутренняя форма слов, обозначающих явления природы, дает представление о своеобразии взглядов северного крестьянина на окружающий мир.
Лексика пищи в режском говоре проанализирована Т. В. Парменовой [Парменова 2015: 55– 74]. Самой распространенной и широко представленной в говоре группой лексики является группа названий выпечных изделий и слов, связанных с приготовлением выпечки. Выпечные изделия – непременная часть народной культуры еды, причем не только праздничной, но и будничной, повседневной: испеченные хозяйкой хлеб, блины, оладьи, пироги – ежедневная еда сельского жителя и в прошлом, и в настоящем.
Заспенник, капустник, пальчики, рыбник, творожник, яблочник, ягодник - эти и многие другие названия выпечных изделий, произведенные по разным основаниям, подробно описываются в материалах проекта. В этой группе лексики широко представлены системные отношения: многие слова являются многозначными (солоник, шаньга, хлебина и хлебины), развита синонимия (сутолока - смешица, разлев - разлева - квашонка , малявочник - меёвочник, недопёка - неупёка -присядыш - завялыш), отмечены антонимы (удача - неудача, тЮчковатый - рохлый). Разнообразны словообразовательные модели, по которым строятся наименования (загибаха, загибень, загибеня, загибенька, загибёшка и загибушка; пресник, пресняк и преснушка и др.).
Тематическая группа «Одежда» в режском говоре характеризуется, как установила Е. Н. Ильина [Ильина 2017: 280–299], лексическим разнообразием, богатой внутренней формой, достаточно активно употребляется местными жителями в ситуации направленной беседы в контексте описания бытового уклада региона и его духовной культуры. В процессе этнолингвистического описания этой группы слов изучены местные названия одежды (мужской и женской, плечевой и поясной, верхней и нижней, будничной и праздничной), обуви (плетеной, валяной, кожаной), головных уборов (мужских и женских), рукавиц и женских украшений. Доказано, что основу данной группы слов составляет общерусская лексика общеславянского и восточнославянского лексического фонда ( одёжа, обутка ) и адаптированные заимствования различных эпох ( сарафан, сак, епанцё ). Внутренняя форма этих слов эксплицирует характеристику по материалу ( сукманина, портяница ), технологии изготовления ( остебенье, чёсаники ) или ношения ( пере-дёжа, подболочка ), специфике внешнего вида (рванина, уханка ), потребительских качеств ( теплушка ), бытовому ( бродни ) или обрядовому назначению.
Е. Н. Ильиной проанализирована также лексика сферы народной медицины в режском говоре [Ильина 2015: 250–266; Ильина 2016: 143– 147]. Анализ этого материала позволяет сделать вывод о сохранении в сельском социуме традиций народного целительства. Жители Режи хорошо помнят народные названия болезней ( по-ветерье, кумоха ), их связи с конкретной частью тела ( черёво ‘грыжа’), симптоматики ( трясуха, шат ), причин появления ( оприкосить, озычать ), средств и способов лечения ( знатьё, надобье, пухтать ). Анализ лексики данной группы свидетельствует о сохранности представлений сельских жителей о магической природе появления и исчезновения болезни ( Когдá худóй че-ловéк… до тебя ´ чем доткнётся, дак опри-кóсит, болéть потóм бýдешь ), зоо- и антропоморфной природе человеческих недугов ( волос, кумоха ), а также о богатстве народных средств и способов их лечения.
Особенности фразеосемантической системы режского говора
Исследование фразеосемантической системы режского говора, проведенное Е. П. Андреевой [Андреева 2015: 167–185], показало, что эта система отражает духовную и материальную культуру северного крестьянина, позволяет судить о его мировосприятии. Локальный характер фразеологизмов, известных режскому говору, обусловлен разными причинами. Прежде всего, региональные единицы могут включать в свой состав диалектные компоненты: матица-добро-хотица , травы не одёрнет , словно банник унёс , брать такими кочами , устаревшие слова на пятах упечься . Нередко такие фразеологизмы строятся по общерусским моделям (ср. на брилах молоко не обсохло - на губах молоко не обсохло ). Различие между диалектными и общерусскими единицами может наблюдаться на грамматическом уровне ( с руку - с руки , рука подать - рукой подать ).
Компонентами региональных фразеологизмов могут быть семантические диалектизмы, совпадающие по форме с общерусскими словами и отличающиеся от них по своему значению: петь (запеть) победные песни ‘горевать (начать горевать)’. Вот отец-от у нас не вернулся, и запели мы с мамой победные песни, одни остались с шестерыми робятами.
Вместе с тем выявлена общность ассоциативно-образной основы общерусских и диалектных единиц (ср. целый кузов - с три короба ). Близость фразеосюжетов очевидна и при сопоставлении общерусских и диалектных фразеологизмов (ср. травы не одёрнет - тише воды, ниже травы ).
В ходе исследования установлено, что в говоре Режи функционирует в достаточно полном объеме система этикетных благопожеланий [Новожилова, Зорина 2017: 120-152]: Пух под ножницы! - стригущему овцу; Беленько мыть! -стирающему белье; Лебеди летят! - тому, кто моет пол; Добро кормить! - хозяину при появлении приплода у скота; Молоко в руки! - тому, кто доит корову; Спорина в квашнЮ! - хозяйке, замешивающей тесто; Сахар - мясо! - человеку, который режет скотину на мясо, и мн. др. Употребление таких благопожеланий реализует присущую жителям категорию вежливости, средства которой заметно отличаются от литературных.
В режском говоре весьма богата паремиоло-гическая система [Зорина 2015а: 21–29]. Многие из зафиксированных пословиц и поговорок отличаются местным своеобразием, например: Не уродись, дерево, на сковородник, а парень на животника (животником называют мужа, пе- решедшего на жительство в дом жены). В записанных паремиях обнаруживаем многочисленные диалектные черты. Это и местные фонетические особенности (артиль, дёнышко, коротка, сусед), и диалектные грамматические формы (батько, в пече), диалектные слова (животник, казак, кроёное, мятьё, нагольная, нужа, паужна, сыздалей, телятко, угода, егнятко), семантические отличия (артиль - ‘группа людей, компания’, а не ‘объединение лиц той или иной профессии’). Все это придает паремиологической системе изучаемой местности неповторимое своеобразие.
Завершая обзор произведенного описания режского говора, отметим, что в дальнейшем исследователям видятся определенные перспективы, поскольку этнолингвистическая специфика говора проявляется также и в не описанных пока особенностях наименований жилища, названий предметов домашней утвари и мн. др.
Примечание
-
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-04-00205 «Режа и режаки: этнолингвистическое описание севернорусского идиома»).
Список литературы Режа и режаки: от идеи до завершения проекта
- Андреева Е. П. Фразеосемантическая система режского говора на фоне общерусской фразеологии//Севернорусские говоры: межвуз. сб./отв. ред. А. С. Герд, Е. В. Пурицкая. СПб.: Нестор-История, 2015. Вып. 14. С. 167-185
- Андреева Е. П. Образная основа составных наименований в режском говоре//Громовские чтения. Вып. 3: Живое народное слово и Костромской край. Кострома: КГУ, 2016. С. 11-25
- Варникова Е. Н. Река Режа: версии происхождения гидронима//Громовские чтения. Вып. 3: Живое народное слово и Костромской край. Кострома: КГУ, 2016. С. 353-359
- Зорина Л. Ю. Паремии в живом народном бытовании (на материале речи жителей Режского поселения Сямженского района Вологодской области)//Вологодский текст в русской культуре: сб. ст. по материалам конференции/ред. Е. Н. Ильина, С. Ю. Баранов, С. Х. Головкина. Вологда: Легия, 2015. С. 21-29
- Зорина Л. Ю. Река Режа как системообразующий фактор жизни в Сямженском районе Вологодской области//Водные пути: Пути жизни, пути культуры: материалы междунар. науч. конф. (Тверь, 15-19 сент. 2015 г.)/ред.-сост. Е. Г. Милютина, М. В. Строганов. Тверь: СФКофис, 2015. С. 183-190
- Зорина Л. Ю. Родная стихия -диалект//Родная речь: сб. науч. ст./отв. ред. Г. В. Судаков. Вологда: ВоГУ, 2017. Вып. 1. С. 105-119
- Иванова Е. Н. Микротопонимия Режского поселения в ономасиологическом и структурном аспектах//Народная речь Вологодского края: между прошлым и будущим/науч. ред. Ю. Н. Драчёва, Л. Ю. Зорина, Е. Н. Ильина. Вологда: Вологод. гос. ун-т, Легия, 2015. С. 74-79
- Ильина Е. Н. Лексика народной медицины в режском говоре//Громовские чтения. Вып. 3: Живое народное слово и Костромской край. Кострома: КГУ, 2016. С. 143-147
- Ильина Е. Н. Одежда жителей Режи как компонент локальной картины мира//Севернорусские говоры. СПб.: Нестор-История, 2017. Вып. 16. С. 280-299
- Ильина Е. Н. Представления о здоровье и болезни в речи жителей Вологодского края//Севернорусские говоры. СПб.: Нестор-История, 2015. С. 250-266
- Колесников П. А. Северная Русь. Археографические источники по истории крестьянства и сельского хозяйства XVII века. Вологда: Вологод. гос. пед. ин-т, 1971. С. 101-102
- Комлева Н. В. Неофициальная антропонимия Режи//Народная речь Вологодского края: между прошлым и будущим. Вологда: Легия, 2015. С. 79-93
- Комлева Н. В. От личного имени к прозвищу (неофициальная антропонимия Режи)//Громовские чтения. Вып. 3: Живое народное слово и Костромской край. Кострома: КГУ, 2016. С. 392-395
- Кузнецов А. В. Словарь гидронимов Вологодской области (обзор этимологий русских и финно-угорских названий рек и озер). Тотьма; Грязовец, 2010. 290 с
- Народная речь Вологодского края: между прошлым и будущим/науч. ред. Ю. Н. Драчёва, Л. Ю. Зорина, Е. Н. Ильина. Вологда: Легия, 2015. 256 с
- Новожилова Н. А., Зорина Л. Ю. Благопожелания в режской коммуникативной культуре/Л. Ю. Зорина, Н. А. Новожилова//Родная речь/отв. ред. Г. В. Судаков. Вологда: Вологод. гос. ун-т, 2017. С. 120-152
- Овсянникова Т. Г. Характеристика детей в речи жителей Режского поселения//Народная речь Вологодского края: между прошлым и будущим/науч. ред. Ю. Н. Драчёва, Л. Ю. Зорина, Е. Н. Ильина. Вологда: Легия, 2015. С. 50-55
- Описание говора Режского поселения Сямженского района в контексте изучения речевой культуры Вологодского края»//Народная речь Вологодского края». Вологда: Вологод. гос. ун-т, 2015. С. 9-110.
- Парменова Т. В. Лексика, связанная с приготовлением выпечных изделий, в режском говоре//Народная речь Вологодского края: между прошлым и будущим/науч. ред. Ю. Н. Драчёва, Л. Ю. Зорина, Е. Н. Ильина. Вологда: Легия, 2015. С. 55-74
- Режские тексты как источник этнолингвистического описания севернорусского диалекта/отв. ред. Л. Ю. Зорина. Вологда: Вологод. гос. ун-т, 2016. 261 с
- Словарь вологодского режского говора/науч. ред. Л. Ю. Зорина. Вологда: Вологод. гос. ун-т; РА «Эпатаж», 2017. 604 с
- Судаков Г. В. Знатоки вологодской говори//Вестник Череповецкого государственного университета. 2016. № 4. С. 104-107
- Шилов А. Л. О балтийских следах в топонимии Северной Руси (к статье В. Н. Топорова)//Заметки по исторической топонимике Русского Севера. М.: Науч.-произв. и изд. центр «Наука и техника», 1999. С.88-93
- Яцкевич Л. Г. Архаические явления в лексической и словообразовательной системах режского говора//Народная речь Вологодского края: между прошлым и будущим/науч. ред. Ю. Н. Драчёва, Л. Ю. Зорина, Е. Н. Ильина. Вологда: Легия, 2015. С. 10-23