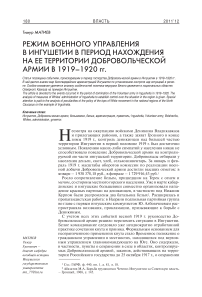Режим военного управления Ингушетии в период нахождения на ее территории добровольческой армии в 1919-1920 гг
Автор: Матиев Тимур Хусенович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 12, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена событиям, происходившим в период господства Добровольческой армии в Ингушетии в 1919-1920 гг. В ней дается анализ мер белогвардейских администраций Ингушетии по установлению контроля над ситуацией в регионе. Особое внимание уделяется анализу особенностей политики верхушки белого движения в национальных областях Северного Кавказа на примере Ингушетии.
Ингушетия, добровольческая армия, большевики, белые, администрация, правитель
Короткий адрес: https://sciup.org/170165678
IDR: 170165678
Текст научной статьи Режим военного управления Ингушетии в период нахождения на ее территории добровольческой армии в 1919-1920 гг
Н есмотря на оккупацию войсками Деникина Владикавказа и прилегающих районов, а также захват Грозного в конце зимы 1919 г., контроль деникинцев над большей частью территории Ингушетии в первой половине 1919 г. был достаточно условным. Появлению каких-либо симпатий у населения никак не способствовало поведение Добровольческой армии на контроли руемой ею части ингушской территории. Добровольцы отбирали у населения деньги, скот, хлеб, сельхозинвентарь. За январь и фев -раль 1919 г. масштабы оборотов комиссии по реализации воен ной добычи Добровольческой армии достигли высших отметок: в январе — 1 938 378,18 руб., в феврале — 1 729 916,43 руб.1
Росло сопротивление белым, пришедшим на Терек с огнем и мечом, со стороны местного горского населения. Уже в марте кабар-динские и ингушские большевики совместно организовали напа дение красных партизан на деникинцев, в частности под Нижним Курпом были разгромлены два батальона белых2. Расширялась и пропагандистская работа: в Назрани подпольная партийная группа во главе с первым ингушским коммунистом Ю. Албогачиевым рас -пространяла воззвания, прокламации, призывающие к борьбе с Деникиным.
МАТ И ЕВ Тимур
С учетом всех этих событий весной 1919 г. руководство До -бровольческой армии решило переломить ситуацию в Ингушетии. Белое командование следовало уже неоднократно отработанной практике сочетания кнута и пряника. Формальным основанием для неограниченного применения кнута стало Временное положение о гражданском управлении в местностях, находящихся под верхов ным управлением главнокомандующего на Юге. Оно содержало, в частности, пункты о сохранении в силе в областях, контролируе мых Добровольческой армией, законов, действовавших на терри тории Российского государства до 25 октября 1917 г., о сохранении в неприкосновенности особых прав и преимуществ, принадлежавших казаче-ству (хотя в том же пункте указывалось на равенство в правах гражданства всех граж -дан без различия национальностей, сосло-вия и вероисповедания); о главенствую -щей роли православной церкви (при том, что прочие признанные церкви и религи озные общества пользуются полной сво бодой и находятся под покровительством закона).
Чтобы несколько снизить накал страстей и дать примирительный сигнал умеренной части местной элиты, на посты глав «вре-менных администраций» были назначены местные уроженцы — генерал Мальсагов в Ингушетии и генерал Алиев в Чечне. Последним досталась поистине неблаго -дарная роль — трансформировать откро -венно неоколониалистскую доктрину своего командования в отношении своих же народов в более или менее приемлемые для обеих сторон практические формы. А сделать это было нелегко — в эти же дни Ингушетии был предъявлен очередной ультиматум, в целом повторявший условия февральского (кроме свободного пропуска войск Деникина через Ингушетию требо-вались еще и выплата контрибуции каза кам за все причиненные им в ходе револю -ции убытки; выдача ингушей, служивших в Красной армии; согласие на мобилиза-цию всех способных к ношению оружия в возрасте от 18 до 40 лет для отправки в Центральную Россию; наконец, согласие на назначение в Терскую область генерал -губернатора из казаков)1.
Администрация Мальсагова стремилась создать хоть какое - то подобие системы эффективного управления. Генерал -администратор (в прошлом — командир 5-й Кавказской казачьей дивизии), назна-чивший своим помощником по военной части полковника М. Куриева, прилагал усилия для стабилизации политической обстановки, идя зачастую на компромисс с той частью общества, которая в зим них боях встала на борьбу с Деникиным. Одним из таких шагов можно считать со -здание шариатского полка (подобие воо-руженной милиции) во главе с известным общественным деятелем и богословом Торко-Хаджи Гардановым, что «позво- лило практически искоренить грабежи и разбои в Ингушетии»2. Мальсагову, кото -рый запретил митинги и таким путем относительно стабилизировал обстановку в плоскостной Ингушетии, удалось также предотвратить начало сбора огромной контрибуции3.
При Мальсагове не были пересмо-трены итоги земельного вопроса, явоч ным порядком решенного осенью 1918 г. по инициативе большевиков. Однако в ключевом вопросе о выставлении ингу шами полков прогресс достигнут не был. Удалось лишь уменьшить их число с четы -рех до двух.
Администрация Мальсагова решила перехватить инициативу в борьбе за общественные симпатии. С этой целью в Назрани был созван всеингушский съезд, на котором Мальсагов призывал ингу-шей оказывать Добровольческой армии всемерную помощь. Необходимость подобных мер была очевидна, поскольку, несмотря на все усилия генерала и его администрации, склонивших часть селе ний к выставлению всадников, большин ство селений от этого отказывалось. Но в ходе работы съезда распространились сообщения о том, что на станции Назрань идет насильственная погрузка всадников в эшелоны4. Источник этой информации установить трудно. Взрыв негодования и резкое обострение ситуации, после-довавшие вслед за этими известиями, стали причиной новой вспышки военной активности в Ингушетии летом 1919 г., следствием чего стал срыв отправки добровольцев и последовавшая крупная ка рательная экспедиция деникинцев в Юго-Западной Ингушетии, в резуль -тате которой был разорен ряд крупных ингушских сел (Экажево, Насыр-Корт, Сурхохи). Непосредственным следствием этих событий стала и смена наместника Ингушетии.
Надежды белых на то, что весомую под держку им окажет новая ингушская адми нистрация во главе с «военным правите лем» генералом Бекбузаровым, не оправ -дались. Правда, при новой администрации были созданы народный совет в составе полковника Шахмурзиева, И. Базоркина и Кодзоева, а также народная управа, в которую вошли инженер Льянов, С. Горчханов и Д. Дудаев. Последняя к ноябрю 1919 г. была разделена на три отдела: административно - хозяйственный, народного образования и здравия и финансовый отдел с особым статистиче -ским бюро. Управа размещалась при пра-вителе Ингушетии. Также был создан еще один орган при правителе — комитет по борьбе с большевиками во главе с полков ником Гойговым. Много внимания уде -лялось организации всевозможных съез-дов, которые осенью 1919 г. собирались в Ингушетии чуть ли не каждый месяц. Так, на сентябрьском съезде в докладе генерала Бекбузарова было сказано, что «ингуш-ская администрация, не получающая со ответствующего содержания от властей Доброармии, хотя такое и было обещано, решила с согласия главноначальствую щего Терско Дагестанского края и по его указания м обложить ингушей особым целевым налогом, сбор с которого и пой дет на содержание ингушской админи страции <„> за каждую лошадь — 30 руб., скотину — 10 руб., барана — 5 руб., фруктовый сад — 1 000 руб., огород — 600 руб.», что было съездом одобрено, поскольку, как едко заметила газета «Вольный горец», «съезд состоял именно из тех, кто должен получать содержание, но до сего времени его не получали от Доброармии»1. В ноя -бре на очередном съезде в Назрани было решено заменить «слишком гуманный» горский словесный суд шариатским, решения которого не подлежали апелля циям и кассации.
Особенно сложно обстояли дела с политической благонадежностью гор ной Ингушетии. В начале декабря на съезде горной Ингушетии в селе Мужичи Бекбузаров потребовал «выдачи всех ору дий и пулеметов, немедленной и неотлож ной дачи всадников для полков», угрожая, что в противном случае будут поставлены заставы, которые не будут пропускать в горы хлебные грузы. В результате съезд постановил удовлетворить эти требова-ния2.
Несмотря на то, что администрация Бекбузарова была практически един ственной к тому времени силой в ингуш ской среде, лояльной деникинцам, по следние не торопились предпринимать активные меры по оказанию ей реальной помощи. Еще в начале октября «Вольный горец» сообщает: «Власти, поставленные Деникиным и Эрдели <^> окружили китайской стеной Ингушетию. Дальше границы Ингушетии ни одного ингуша не пропускают. Налагаются жестокие наказания на тех кабардинцев, осетин и балкарцев, которые по торговым или иным надобностям пытаются пробраться в Ингушетию»3.
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность деникинских военных администраций в Ингушетии в период 1919—1920 гг. не увенчалась успехом. Основными причинами можно считать следующие. Во первых, вся совокупность политических шагов белого движения на Юге России, особенно в национальных областях, не отвечала изменившимся общественно политическим условия м и страдала негибкостью и привержен ностью стереотипам. Это проявлялось и в ставке на силовые методы в отноше нии горцев в период установления вла сти Добровольческой армии в регионе зимой 1919 г., и в стремлении добиться невозможного — восстановить положение «по состоянию на 1914 г.» в социально -политическом укладе, национальных отношениях, административном плане. Все это наталкивалось на неприятие и открытую враждебность местного населе ния, уже понявшего в период существова ния Терской республики в 1918 — начале 1919 г., что может быть и иной подход к решению их насущных проблем, более их устраивающий. Во вторых, не удалось консолидировать антибольшевистские силы, которых в тот период в регионе еще было немало и влияние которых еще не было окончательно подорвано. Однако деникинцы в 1919 — начале 1920 г. с успехом «справились» с задачей под рыва этого влияния. В третьих, верхушка Добровольческой армии не доверяла своим назначенцам из числа уроженцев горских областей, пусть даже и царских генералов и офицеров, подозревая их в скрытых симпатиях к соотечественни кам. Все это в совокупности и определило провал политики белых администраций в Ингушетии в 1919—1920 гг.