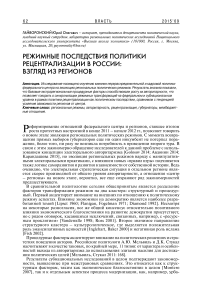Режимные последствия политики рецентрализации в России: взгляд со стороны регионов
Автор: Гайворонский Юрий Олегович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 9, 2015 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено изучению влияния перераспределительной и кадровой политики федерального центра на эволюцию региональных политических режимов. Результаты анализа показали, что базовые экстрарегиональные процедурные факторы способствовали росту их авторитарности, что позволяет говорить о синхронизации режимных трансформаций на федеральном и субнациональном уровнях в рамках политики рецентрализации как политическом последствии, сравнимом с тенденцией усиления зависимости регионов от центра.
Региональные режимы, авторитарность, рецентрализация, губернаторы, межбюджетные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/170168113
IDR: 170168113
Текст научной статьи Режимные последствия политики рецентрализации в России: взгляд со стороны регионов
Р еформирование отношений федерального центра и регионов, ставшее итогом роста протестных настроений в конце 2011 – начале 2012 гг., позволяет говорить о новом этапе эволюции региональных политических режимов. С момента возвращения прямых выборов губернаторов еще ни один инкумбент не потерпел поражение, более того, ни разу не возникла потребность в проведении второго тура. В связи с этим закономерно обращение исследователей к данной проблеме с использованием концепции электорального авторитаризма [Golosov 2014; Авдонин 2014; Карандашова 2015], но эволюция региональных режимов наряду с манипулятивными электоральными практиками, с влиянием новых «правил игры» подчиняется также логике саморазвития и развития в зависимости от собственной истории. Ведь очевидно, что электоральная стратегическая ситуация в отдельном регионе является скорее производной от общего уровня авторитарности, а отношения «центр – регионы» на новом этапе, вероятно, все еще сохраняют ряд закономерностей предшествующего.
В сравнительной политологии сегодня общепринятым является разделение факторов трансформации режимов на два кластера: структурный и процедурный. Первый акцентирует внимание на внешних по отношению к политическому режиму аспектах. Влияние экономики на демократию является наиболее разработанной темой [Lipset 1960; Flanigan, Fogelman 1971; Diamond 1992]. Несмотря на некоторые разногласия, все же общий консенсус относительно позитивного влияния экономического благосостояния на развитие демократии присутствует, но с рядом оговорок, касающихся исключений, связанных, например, с «ресурсным проклятием» [Vandewalle 1998; Ross 2001]. Второе значимое направление структурного кластера – культурологическое, где выделяется положительная роль эмансипативных ценностей [Inglehart, Baker 2000] и негативная роль ислама [Fish 2002].
Процедурные факторы акцентируют внимание на политических решениях и стратегиях поведения акторов. Российские политологи А.Ю. Мельвиль и Д.К. Стукал насчитывают в качестве таковых, по крайней мере, 11 типов: от характера и особенностей выхода из авторитаризма до использования элитами насилия для достижения политических целей [Мельвиль, Стукал 2011: 168].
Результаты субнациональных исследований в целом подтверждают закономерности, выявленные при межстрановых сравнениях. Это относится как к структурным факторам, таким как экономическое благосостояние в целом [Montero 2007], так и к отдельным аспектам процесса модернизации, как, например, урба- низация [McMann, Petrov 2000]. Релевантны и выводы, касающиеся факторов культуры. Наличие в регионе значительной доли мигрантов из демократических стран Западной Европы позитивно влияет на уровень демократичности региона [Montero 2010, Lankina 2010].
Исследования, посвященные процедурным аспектам трансформации субнациональных режимов в плане влияния центра на политическое развитие регионов, можно разделить на две части: фискальный федерализм и кадровую политику. В первом случае для ученых-компаративистов важно понять последствия перераспределительной политики федерального правительства. Основным механизмом признается электоральная, законодательная поддержка сверхпредставленных регионов 1 в парламенте, а также сохранение политического порядка [Diaz-Cayeros 2006; Robinson, Verdier 2002]. Отдельное развитие получила концепция субнационального рантьеризма [Gervasoni 2010], который является следствием фискального федерализма и формируется «в тех случаях, если регионы получают трансферты, значительно превышающие их собственные (потенциальные) доходы от налогообложения» [Gervasoni 2010: 309].
В центре внимания изучения кадровой политики оказывается проблема соотношения лояльности и компетенции, характерная для диктатур [Wintrobe 2000; Егоров, Сонин 2008]. В электоралистских режимах, к которым возможно отнести российский случай, стимулы центра и регионов отличны от закрытых гегемоний. Преследуя цель победы на выборах, общенациональная власть стремится назначать в регионы лидеров, способных обеспечить необходимый результат. Как следствие, сосредоточение на электоральных задачах может привести к снижению эффективности власти и подрыву политической стабильности [Reuter, Robertson 2012: 1024]. Следовательно, сравнительные исследования указывают на интересную закономерность, характерную как для демократизирующихся, так и закрытых авторитарных режимов: общенациональный центр (действующее правительство) в значительной степени заинтересован в обеспечении территориального контроля и электорального результата.
Таким образом, базовую гипотезу для исследования режимных последствий политики рецентрализации в России можно сформулировать следующим образом.
H1: влияние федерального центра с помощью перераспределения межбюджетных трансфертов и кадровой политики в отношении глав регионов способствовало повышению уровня их авторитарности.
Подтверждение данной гипотезы позволит сделать вывод о синхронизации режимных трансформаций на федеральном и региональном уровнях как основной характеристике политики централизации наряду с усилением политического контроля.
Для тестирования гипотезы использован метод панельной регрессии. Предварительные тесты показали, что в силу плотной корреляции переменных во времени наиболее приемлемым является метод случайных эффектов ( random еffects – RE ) и межгрупповая регрессия ( between – Be ) в качестве вспомогательного метода. Для изучения ряда динамических аспектов использован метод Ареллано-Бонда. Здесь используется двухшаговая техника с робастными оценками для получения наиболее точных результатов для оценок, не являющихся полностью экзогенными (что касается, например, показателей межбюджетных отношений).
Зависимая переменная «авторитарность» операционализирована от обратного с точки зрения минималистического подхода к демократии, восходящего к Й. Шумпетеру, где она представляет собой институциональный механизм, который позволяет акторам на свободных и честных выборах конкурировать за голоса избирателей [Шумпетер 1995].
Индекс авторитарности состоит из показателей электоральной конкуренции (индекс Лааксо-Таагеперы, Хуана Молинара, «резерв победы» и «уязвимость победителя»1), авторитарно-административной мобилизации (квадрат доли явки), а также экспертных оценок (Московский центр Карнеги). В качестве техники построения индексов использован метод главных компонент. Результатом вычислений является переменная, измеренная не в привычных процентах или 10-балльных шкалах, а в z-значениях, что более удобно для статистического анализа.
В качестве независимых переменных используются два блока показателей. Первый – факторы влияния федерального центра, отражающие процедурную составляющую трансформации региональных политических режимов, т.к. представляют собой политические решения федерального центра:
– безвозмездные поступления из консолидированного бюджета РФ в консолидированный бюджет субъекта РФ в ценах 2007 г. в расчете на одного жителя («трансферты»), логарифмированная;
– отношение доходов консолидированного бюджета субъекта РФ от федеральных трансфертов к собственным доходам в ценах 2007 г. на душу населения («ран-тьеризм»), логарифмированная;
– отсутствие биографической связи губернатора с регионом («варяг»), «дамми»-переменная;
– замена главы региона («замена»), «дамми»-переменная;
– замена главы региона в год региональных выборов («замена под выборы» 2 ), «дамми»-переменная;
– совмещенные выборы федерального и регионального уровней («совмещенные»), «дамми»-переменная.
Второй блок – внутрирегиональные структурные факторы:
– средняя номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций, скорректированная по размеру прожиточного минимума в ценах 2007 г. («благосостояние»);
– доля городского населения («гор. нас.»);
– экономическое благосостояние городского населения как пересечение первых двух индикаторов («благосост. × гор. нас.»);
– доля русского населения («русские») 3 , логарифмированная.
В качестве контрольных переменных используются:
– численность населения региона («население»), логарифмированная;
– федеральный округ (ДФО является типичным с точки зрения среднего уровня авторитарности), «дамми»-переменная;
– год, «дамми»-переменная.
Временной интервал охватывает 5 лет (2007–2011), т.к. данные по 2005–2006 гг. содержат пропуски в связи с тем, что ряд регионов еще не перешел на смешанную систему выборов, что делает невозможным расчет указанных электоральных индексов.
Начнем с общей тенденции, которая указывает на увеличение уровня авторитарности относительно всей выборки (табл. 1): в рамках моделей со случайными эффектами переменные, фиксирующие режимные вариации в соответствующем году, являются значимыми и положительно связанными с зависимой переменной. Это означает, что режимы 2009 г. (2008 г. – только в третьей модели) характеризуются большим уровнем авторитарности, чем 2007 г.; 2010 г. – большим, чем 2009 г. и т.д. Общая тенденция такова, но она не является однородной.
При первом приближении содержание табл. 1 указывает на отсутствие влияния основных рычагов воздействия федерального центра на регионы. Во-первых, ни в одной из трех базовых ( RE ) моделей не удалось зафиксировать связь федеральной финансовой помощи, будь то трансферты или их производный показатель «ран-
1 Соответственно: MLT = ~ , где ν i – доля голосов i -й партии; *n -1 + *,
Er; '
Уг!-г
, где Nlt – индекс Лааксо-
Таагеперы, ν i – доля голосов i -й партии, ν 1 – доля голосов партии-победителя; mv = v,-v:; v = ^ -г, .
станту во времени, она не может применяться в динамических моделях.
тьеризм», с одной стороны, и уровня авторитарности – с другой. Во-вторых, наличие в регионе губернатора-«варяга» имеет значение, однако связь здесь негативная. Регионы, во главе которых находится губернатор, биографически слабо связанный с ним либо вообще назначенный извне, приблизительно на 0,12 пунктов менее авторитарны. Это, на первый взгляд, не столь значимое, однако устойчивое влияние, относительно которого возможно делать надежные выводы.
Таблица 1
Результаты регрессионного анализа (случайные эффекты и межгрупповая зависимость)
|
Модель 1 ( RE ) |
Модель 2 ( RE ) |
Модель 3 ( RE ) |
Модель 4 ( Be ) |
|||||
|
Коэфф. |
СО |
Коэфф. |
СО |
Коэфф. |
СО |
Коэфф. |
СО |
|
|
Трансферты |
.084 |
.066 |
.094 |
.067 |
.612** |
.197 |
||
|
Рантьеризм |
.061 |
.048 |
||||||
|
Губернатор-варяг |
–.125* |
.068 |
–.117* |
.068 |
–.122* |
.074 |
||
|
Замена «под выборы» |
.266** |
.136 |
–1.72 |
1.44 |
||||
|
Русские |
–.024** |
.005 |
–.026** |
.005 |
–.215** |
.078 |
–.138* |
.070 |
|
Благосостояние |
–.007 |
.094 |
.000 |
.192 |
||||
|
Гор. нас. |
–.023** |
.006 |
–.033** |
.014 |
||||
|
Благосост. × гор. нас |
–.118 |
.091 |
||||||
|
Население |
–.145 |
.191 |
–.396 |
.187 |
–.315 |
.254 |
.532 |
.325 |
|
ЦФО |
–.159 |
.241 |
.021 |
.249 |
.000 |
.313 |
||
|
СЗФО |
–.619** |
.246 |
–.627* |
.261 |
–.596* |
.336 |
||
|
ЮФО |
–.305 |
.329 |
.127 |
.318 |
–.013 |
.411 |
||
|
ПФО |
–.170 |
.267 |
.070 |
.247 |
.135 |
.361 |
||
|
СФО |
–.365 |
.265 |
–.076 |
.264 |
–.110 |
.342 |
||
|
СКФО |
–.157 |
.400 |
.336 |
.403 |
.640 |
.474 |
||
|
УФО |
–.277 |
.309 |
–.211 |
.332 |
–.467 |
.431 |
||
|
2008 |
.037 |
.055 |
.023 |
.057 |
.140** |
.060 |
||
|
2009 |
.131** |
.064 |
.119** |
.065 |
.246** |
.068 |
||
|
2010 |
.201** |
.059 |
.188** |
.060 |
.301** |
.062 |
||
|
2011 |
.307** |
.060 |
.281** |
.063 |
.377** |
.066 |
||
|
Константа |
2.25** |
1.08 |
1.99 |
1.19 |
2.48* |
1.42 |
–2.43 |
2.24 |
|
N obs / N groups |
309/74 |
317/74 |
357/78 |
107 / 30 |
||||
|
R–squared |
.715 |
.655 |
.459 |
.427 |
||||
|
Wald (Prob>chi 2 ) |
.000 |
.000 |
.000 |
|||||
|
F (Prob>F) |
.032 |
|||||||
* Примечание . Зависимая переменная – «авторитарность»; * – коэффициент значим на уровне 0,1; – на уровне 0,05.
Казалось бы, приведенные аргументы опровергают выдвинутую гипотезу, но более детальный разбор результатов (статического и динамического характера) ука- зывает на наличие ряда кластеров в изучаемой выборке, где работают различные закономерности. Так, подтверждает гипотезу тенденция замены губернатора «под выборы», причем данный фактор согласно коэффициенту регрессии превышает негативное влияние губернаторов-варягов в 2 раза, по сути, нивелируя его.
Интересными являются результаты четвертой модели, где был исследован кластер регионов, возглавляемых губернаторами-варягами. Именно здесь удалось выявить первостепенную важность и положительное влияние поступлений из федерального бюджета на авторитарность региона.
Среди внутрирегиональных структурных факторов значимыми оказались и доля русских, и показатели модернизации. Первый обладает устойчивым влиянием на авторитаризм, но в целом наличие данной закономерности не является открытием, т.к. существование более авторитарных этнических республик среди других субъектов РФ – давно известный эмпирический факт. Но все же в этом случае дальнейший поиск (в дальнейших исследованиях) каузальных механизмов необходимо вести скорее не в рамках контекста, а культурно-исторических факторов и механизмов, в частности религиозных, хотя первые, скорее всего, также будут иметь значение.
Обратное возможно утверждать относительно СЗФО, где действуют факторы, не зафиксированные в предлагаемой модели анализа. Поиск каузального механизма здесь, наоборот, следует начинать с выявления контекста и исторических условий, вооружившись методологией исторического институционализма.
Модернизационная гипотеза в российском контексте «работает» c некоторыми особенностями. По итогам анализа можно заключить, что экономическое благосостояние населения не влияет на уровень авторитарности. Оппозиционно настроенный и разделяющий ценности свободной конкуренции электорат в России – это не просто состоятельные граждане, а скорее представители городского класса, включающего широкий набор характеристик.
Далее перейдем к динамической модели (табл. 2).Следует дополнительно акцентировать внимание на том, что влияние предикторов здесь как бы «очищено» от автокорреляции независимой переменной, что позволяет более тонко оценить последствия политических решений. Здесь в первую очередь подтверждается наличие path dependency в эволюции региональных режимов, т.к. авторитарность в текущем году в значительной степени зависит от авторитарности в предыдущем.
Гипотеза исследования здесь подтверждается в полной мере. Во-первых, на это указывает значимость переменной «рантьеризм», положительно влияющей на зависимую переменную. Во-вторых, так же как и в случае ротации главы региона «под выборы», можно констатировать влияние кадровой политики федерального центра на уровень авторитарности, способствующей ее росту. Разница заключается лишь в том, что если в год замены проводились выборы, то это позволяло эксплицировать изменение расстановки сил в краткосрочной перспективе, в противном случае влияние проявляло себя с лагом, как минимум, в один год. Наконец, дополнительным позитивным эффектом для сокращения каналов доступа к власти обладают совмещенные электоральные кампании регионального и федерального уровней.
Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что гипотеза в целом может считаться подтвержденной: базовые экстрарегиональные процедурные факторы способствовали росту авторитарности субнациональных режимов, хотя наличие path dependency в эволюции региональных режимов определяет невысокую эффективность воздействия. Тем не менее возможно утверждать, что существует синхронизация режимных трансформаций на федеральном и субнациональном уровнях в рамках политики рецентрализации как политическое последствие, сравнимое с тенденцией усиления зависимости регионов от центра.
Общая тенденция сочетается с резистентностью некоторых регионов, связанной скорее не с развитием практик демократичности, которые так и не сформировались в полной мере, а с внутриэлитной деконсолидацией, преодолеть которую губернаторам-варягам не удалось, несмотря на финансовую поддержку со стороны федерального правительства. В этом свете заявления о неэффективности указанного кластера губернаторского корпуса выглядят вполне справедливыми. В результате возникает проблематика, связанная с эволюцией субнациональных режимов
Таблица 2
|
Модель 1 |
Модель 2 |
Модель 3 |
Модель 4 |
|||||
|
Коэфф. |
СО |
Коэфф. |
СО |
Коэфф. |
СО |
Коэфф. |
СО |
|
|
Авторитарность (1 лаг) |
.788** |
.198 |
.827** |
.160 |
.735** |
.202 |
.850** |
.163 |
|
Трансферты |
.151 |
.113 |
.116 |
.072 |
||||
|
Рантьеризм |
.196** |
.094 |
.201* |
.108 |
||||
|
Варяг |
–.060 |
.061 |
–.085 |
.058 |
–.004 |
.076 |
–.012 |
.079 |
|
Замена |
.049 |
.063 |
.057 |
.062 |
||||
|
Замена (1 лаг) |
.149* |
.089 |
.168* |
.095 |
||||
|
Замена «под выборы» |
.456** |
.145 |
||||||
|
Совмещенные |
.359** |
.086 |
.375** |
.093 |
||||
|
Благосост. |
–.115 |
.149 |
.062 |
.201 |
||||
|
Гор. нас. |
–.003 |
.038 |
–.012 |
.042 |
||||
|
Благосост. × гор. нас. |
–.189** |
.093 |
–.116 |
.115 |
||||
|
Население |
–3.83 |
4.80 |
–7.21 |
6.63 |
–.823 |
5.00 |
6.00 |
5.82 |
|
2008 |
.087 |
.071 |
.025 |
.059 |
.050 |
.051 |
–.013 |
.069 |
|
2009 |
.036 |
.081 |
–.001 |
.087 |
.041 |
.066 |
–.026 |
.099 |
|
2010 |
.064 |
.070 |
.064 |
.073 |
.060 |
.056 |
.010 |
.088 |
|
2011 |
.059 |
.081 |
.003 |
.085 |
.004 |
.078 |
–.073 |
.103 |
|
Константа |
23.5 |
30.1 |
–43.3 |
40.2 |
5.00 |
30.1 |
–35.7 |
36.2 |
|
N obs / groups |
287 / 80 |
249 / 70 |
287/80 |
244 / 71 |
||||
|
Wald (р>chi 2 ) |
.000 |
.000 |
.000 |
.000 |
||||
|
Abond(p>z 1/2 order) |
.008 / .723 |
.004/ .620 |
.013 / .716 |
.004 / .610 |
||||
Примечание . Зависимая переменная – «авторитарность»; * – коэффициент значим на уровне 0,1; – на уровне 0,05.
Результаты регрессионного анализа (метод Ареллано-Бонда)
на новом этапе эволюции, где варягам удалось, на первый взгляд и согласно электоральным показателям, достичь высоких результатов 1 . Говорит ли это о подвижках в сторону консолидации региональных элит? Это вопрос для дальнейших исследований, для которых данная статья предлагает гипотезу о потенциальном наличии латентных конфликтов.
Статья подготовлена в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ по теме «Политическая конкуренция в России: субнациональное измерение», реализуемой лабораторией региональных политических исследований под руководством д.полит.н. Р.Ф. Туровского.
Список литературы Режимные последствия политики рецентрализации в России: взгляд со стороны регионов
- Авдонин В.С. 2014. Как региональная автократия «адаптирует» политические реформы на региональном и муниципальном уровнях (случай Рязанской области). -Рro nunc. Современные политические процессы. № 1. С. 57-83
- Егоров Г., Сонин К. 2008. Диктаторы и визири: экономическая теория лояльности и компетентности. -Общественные науки и современность. № 2. C. 36-51
- Карандашова С.А. 2015. Российские особенности электорального авторитаризма: новые практики обеспечения победы инкумбентов на губернаторских выборах. -Вестник Пермского университета. Сер. Политология. № 1. С. 51-67
- Мельвиль А.Ю., Стукал Д.К. 2011. Условия демократии и пределы демократизации. Факторы режимных изменений в посткоммунистических странах: опыт сравнительного и многомерного статистического анализа. -Полис. № 3. С. 164-183
- Шумпетер Й. 1995. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика. 540 с
- Diamond L. 1992. Economic Development and Democracy Reconsidered. -American Behavioral Scientist. Vol. 35. P. 450-499
- Diaz-Cayeros A. 2006. Federalism, Fiscal Authority, and Centralization in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press. 302 p
- Fish S. 2002. Islam and Authoritarianism. -World Politics. Vol. 55. P. 4-37
- Flanigan W., Fogelman E. 1971. Patterns of Political Development and Democratization: A Quantitative Analysis. -Macro-Quantitative Analysis: Conflict, Development, and Democratization (ed. by J.V. Gillespie, B.A. Nesvold). Beverly Hills: Sage. P. 441-474
- Gervasoni C. 2010. A Rentier Theory of Subnational Regimes: Fiscal Federalism, Democracy, and Authoritarianism in the Argentine Provinces. -World Politics. Vol. 62. No 2. P. 302-340
- Golosov G. 2014. Growing Old without Grace: Electoral Authoritarianism and the Age Composition of Russia's Regional Legislative Assemblies. -Representation. No 4. P. 509-526
- Inglehart R., Baker W. 2000. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values. -American Sociological Review. Vol. 65. P. 19-51
- Lankina T. 2010. Regional Democracy Variations and the Forgotten Legacies of Western Engagement. -The Politics of Subnational Authoritarianism in Russia (ed. by V. Gel'man, C. Ross). Burlington: Ashgate. P. 39-66
- Lipset S.M. 1960. Political man: the Social Bases of Politics. N.Y.: Doubleday and Co. 477 p
- McMann K., Petrov N. 2000. Survey of Democracy in Russia’s Regions. -Post-Soviet Geography and Economics. No 3. Р. 155-182
- Montero A. 2007. Uneven Democracy? Subnational Authoritarianism in Democratic Brazil. -Materials of Latin American Studies Association meeting. 2007, Montréal, Canada, September 5-7. Materials of the Conference in honor of Alfred Stepan. Columbia University, October 2007
- Reuter O. J., Robertson G. 2012. Subnational Appointments in Authoritarian Regimes: Evidence from Russian Gubernatorial Appointments. -The Journal of Politics. No 4. P. 1023-1037
- Robinson J., Verdier T. 2002. The Political Economy of Clientelism. -CEPR Discussion Paper. No. 3205
- Ross M. 2001. Does Oil Hinder Democracy? -World Politics. Vol. 53. P. 325-361
- Vandewalle D. 1998. Libya since Independence: Oil and State-Building. Ithaca: Cornell University Press. 245 p
- Wintrobe R. 2000. The Political Economy of Dictatorship. Cambridge: Cambridge University Press. 404 p