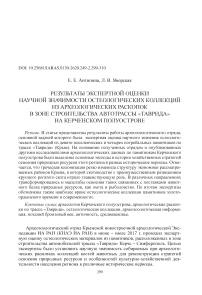Результаты экспертной оценки научной значимости остеологических коллекций из археологических раскопок в зоне строительства автотрассы "Таврида" на Керченском полуострове
Автор: Антипина Е.Е., Яворская Л.В.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов
Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты работы археозоологического отряда, основной задачей которого была экспертная оценка научного значения остеологических коллекций из девяти поселенческих и четырех погребальных памятников по трассе «Таврида» (Крым). На основании полученных отрядом и опубликованных другими исследователями археозоологических данных по памятникам Керченского полуострова были выделены основные эпизоды в истории хозяйственных стратегий освоения природных ресурсов этого региона в разные исторические периоды. Отмечается, что греческая колонизация резко изменила структуру экономики рассматриваемых районов Крыма, в которой скотоводство с преимущественным разведением крупного рогатого скота играло главенствующую роль. В различных направлениях трансформировались и масштабы освоения таких связанных с поставками животного белка природных ресурсов, как охота и рыболовство. По итогам экспертизы обозначены также наиболее яркие остеологические коллекции памятников золотоордынского времени и современности.
Археология керченского полуострова, археологические раскопки по трассе
Короткий адрес: https://sciup.org/143164011
IDR: 143164011
Текст научной статьи Результаты экспертной оценки научной значимости остеологических коллекций из археологических раскопок в зоне строительства автотрассы "Таврида" на Керченском полуострове
Археозоологический отряд Крымской новостроечной археологической Экспедиции ИА РАН (КНАЭ ИА РАН) в июне – июле 2017 г. проводил экспертную оценку остеологических материалов из памятников, расположенных в зоне строительства автомобильной трассы «Таврида» Керчь – Симферополь. Целью экспертизы было установить научную значимость собираемых при археологических раскопках коллекций костей животных для реконструкции стратегий освоения природных ресурсов и особенностей культурно-хозяйственной деятельности населения региона в различные исторические периоды.
Напомним, что в Лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН изучение остеологических материалов проводится по нескольким археозоологиче-ским программам, решающим разные по сложности задачи ( Антипина , 2016). В полевых условиях используются, как правило, сокращенные варианты обработки, которые в итоге позволяют проанализировать видовую структуру остеологических материалов с проекцией на особенности потребления населением белковых (мясных) продуктов. Представительные коллекции костей животных, поступающие в лабораторию, исследуются по расширенным программам с последующим выходом на реконструкцию специфики экономической модели поселения.
Экспертиза научной значимости остеологических коллекций, собранных в рамках работ КНАЭ ИА РАН, проводилась по следующим параметрам:
-
1. Eстественная сохранность костей животных (по 5-балльной шкале, где 1 – низшая оценка).
-
2. Количественный объем остеологических материалов.
-
3. Насыщенность культурного слоя костными остатками животных (число фрагментов на проекцию в 1 кв. м).
-
4. Степень искусственной раздробленности фрагментов.
-
5. Видовой набор животных, чьи кости обнаружены на памятнике.
-
6. Наличие и количество остатков косторезного ремесла.
Оценивалась также однородность остеологического материала в отношении естественной сохранности, цвета костных фрагментов, целостности элементов скелета животных для выявления интрузивных захоронений. Все эти параметры и оценки еще в процессе раскопок позволяют прояснить степень репрезентативности материала, а методики их подсчета и смысловая нагрузка уже не раз обсуждались нами в различных статьях ( Антипина , 2009; 2016; Яворская , 2012; 2015).
Полученная по данным параметрам информация и обусловила выбор конкретной археозоологической программы для каждого из памятников. Были проанализированы остеологические выборки из раскопок девяти поселений и четырех могильников разных эпох. Кости животных были собраны на разных стадиях раскопок, поэтому лишь для двух поселений удалось провести исследование по расширенной программе ввиду хорошей сохранности костных фрагментов и четкого археологического контекста. Это поселение эпохи поздней бронзы Луговое-СЗ-2 и почтовая станция Нового времени с названием Ленин-ское-VII (Аргин). Результаты обработки этих коллекций готовятся к публикации. По сокращенным программам были оценены остеологические материалы семи памятников. В дополнение к этому коллекции из еще трех поселений уже после завершения раскопок поступят в лабораторию для их изучения по максимально детализированной программе.
Результаты экспертизы приводятся по памятникам в хронологической последовательности, начиная от самых ранних эпох.
-
1. Поселение Луговое-СЗ-2. На момент экспертной оценки было раскопано около 50% площади памятника. Культурные напластования поселения отнесены археологами к позднему бронзовому веку. Остеологическая выборка составила около 3 тыс. фрагментов. Естественная сохранность костей хорошая, она
-
2. Поселение «11 километр». Остеологические выборки получены при раскопках двух участков. Участок 1 в восточной части памятника содержит материалы античной эпохи с небольшой примесью артефактов как более раннего, так и более позднего периода. Выборка костей животных из культурных напластований с керамикой I в. до н. э. – II в. н. э. составила 300 фр-тов. Естественная сохранность удовлетворительная (3 балла). Насыщенность культурного слоя памятника на данном участке крайне низка: (1 фр-т в проекции на 10 кв. м). Иерархия обнаруженных видов: КРС, лошадь, МРС, собака, свинья домашняя. Остатков диких животных не зафиксировано. Однако в культурном слое этого участка обнаружены окаменевшие элементы скелетов (фоссилии) китообразных: ребра среднего по размерам кита (вероятно, цетотерия) и позвонок небольшого дельфина. Такие «фоссилии» нередко встречаются в неогеновых отложениях Керченского полуострова. По-видимому, они были принесены на поселение античного периода его обитателями. Обработка этого материала показала типичность видового набора домашних животных для поселений античного времени Северного Причерноморья. Однако объем коллекции недостаточен для хозяйственных реконструкций.
-
3. Поселение Султановка. Разведками зафиксированы обломки керамики эпохи бронзы и античного времени. Однако в зону исследований попали
-
4. Поселение Горностаевка Восточный. Раскопки памятника выявили ситуацию маломощного и прерывающегося культурного слоя, почти уничтоженного распашкой. В обнаруженных западинах и различного рода ямах выявлена керамика античного времени. Остеологическая выборка включает около 300 костей и разделяется на две группы. Одна группа объединяет кости животных из разрушенного культурного слоя, вероятно, все же античного времени, естественная сохранность которых оценивается в три балла. Видовой набор ограничивается четырьмя домашними видами: КРС, лошадь, МРС, собака. Среди этих остатков присутствуют фрагменты костей домашних животных, которые, несомненно, можно считать более поздними интрузивами. Их отличает цвет и гораздо лучшая естественная сохранность. Более того, в пределах первого штыка в квадрате 26/Е была обнаружена лучевая кость человека, а в квадрате 7/З – часть черепа и передняя конечность крупной современной лошади, соответствующей по размерам и массивности тяжеловозу. Другая группа костных остатков включает крупные фрагменты хорошо сохранившихся элементов скелетов домашних животных, происходящие из четырех ям. Это также современные захоронения взрослой лошади, жеребенка, теленка и молочного поросенка. Такая структура материала связана с ситуацией перекопов при активных хозяйственных и военных действиях на протяжении последних двух веков. Малый объем остеологических материалов, а также перемешанность и состояние культурного слоя, из которого они происходят, заставляют считать данную коллекцию непредставительной и непригодной для решения поставленных архео-зоологических задач.
-
5. Поселение Кош Кую. В рамках археологических исследований на данном памятнике выявлено несколько значительных по площади участков с культурными напластованиями различных эпох. В разных частях памятника зафиксированы слои античного времени, а также культурные напластования как зрелого (XIV–XV вв.), так и позднего средневековья (XVI–XVIII вв.). На момент экспертизы сборы остеологических материалов только начались. Костные остатки животных в средневековых культурных напластованиях характеризуются хорошей и удовлетворительной сохранностью. Насыщенность ими культурного слоя невысокая. Сходные параметры отмечены и для остеологических находок на участке с напластованиями античного времени. Выборки костей животных из этого памятника после завершения раскопок поступят в ИА РАН для дальнейшей обработки. Прогнозируемые вполне представительные количественные объемы и хорошая естественная сохранность остеологического материала, а также уникальная возможность в одном месте получить однородные выборки костей животных по двум хронологическим периодам позволяют поставить задачу изучения особенностей освоения природных ресурсов одной и той же
-
6. Поселение Фонтан VI. Начальная фаза раскопок показала, что в одних и тех же пластах фиксируются артефакты средневекового и античного времени. Это обусловлено интенсивной распашкой, которая проходила практически по всей площади памятника. Результатом хозяйственного нарушения напластований памятника стала повышенная раздробленность остеологического материала, что непредсказуемо меняет его количественные оценки. Видовой набор домашних животных типичен как для античности, так и для средневековья: КРС, МРС, лошадь, собака. После завершения раскопок остеологическая коллекция будет направлена в Институт истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) для дальнейшей обработки.
-
7. Поселение Батальное-1. Судя по керамическому комплексу, поселение существовало в так называемый османский период истории Крымского полуострова (XVI–XVIII вв.), однако его культурный слой сильно пострадал при более поздних военных действиях и хозяйственном освоении региона. И керамические и костные фрагменты разнесены распашкой по территории, превышающей площадь поселения. Естественная сохранность костей животных удовлетворительная, но насыщенность ими культурных напластований раскопанной части памятника низкая. Видовой набор животных обычен для памятников османского времени: КРС, лошадь, МРС, верблюд, собака, кошка. Однако в коллекции обнаружено также много интрузивных остатков современных животных.
-
8. Кенгез Восточный-17. Раскоп 2. Раскопками вскрыты культурные напластования татарского поселения конца XVIII–XIX в. – периода после присоединения Крыма к Российской империи в 1783 г. На момент археозоологической экспертизы площадь раскопа составила 2400 кв. м, а выборка костных остатков животных – около 1 тыс. фр-тов. Естественная сохранность оценивается в пределах 3–4 баллов, насыщенность слоя костями животных низкая (не более 1 фр-та на проекцию в 2 кв. м). Видовой набор животных несколько отличен от установленного по материалам крымских памятников предшествующих эпох: костей диких животных в культурных напластованиях почти не зафиксировано, а среди домашних появляется верблюд. Иерархия домашних копытных: КРС, лошадь, МРС, свинья. Кроме них, в культурном слое и ямах часто встречались остатки скелетов домашних «помощников» – собак и кошек. Особо стоит отметить три случая помещения в хозяйственные ямы костей от отделенных немясных частей телячьих тушек: от голов и дистальных частей конечностей. Животные были забиты в возрастах от 8 до 30 месяцев. В одном из этих наборов обнаружились и практически целые позвонки и ребра от левой стороны грудной клетки, а также левая плечевая кость. На одном ребре зафиксированы следы перелома и связанного с ним значительного патологического процесса, что, возможно, и стало причиной для выбраковки этой мясной части туши животного и захоронения ее в яме вместе с немясными отходами. Поскольку при обыденном потреблении мясной пищи костные отходы от одной туши, как правило, оказываются в различных частях поселения и в разных археологических объектах, данные
-
9. Поселение Ленинский-VII (Аргин) является руинами станции на почтовом тракте конца XVIII – начала XX в. Ко времени археозоологической экспертизы исследованная площадь памятника составила около 3 тыс. кв. м. Собранная остеологическая выборка включала около 1,5 тыс. фр-тов. Насыщенность слоя костными остатками небольшая – примерно 1 фр-т на проекцию в 2 кв. м. Необычный, но понятный археологический контекст, а также представительная коллекция с хорошей (4 балла) естественной сохранностью костей позволили провести достаточно полное их исследование. Зафиксировано несколько категорий археозоологических материалов. В категории «кухонных остатков» представлены все виды домашних копытных в следующей иерархии: КРС, МРС, лошадь, свинья. Остатков костей лошадей довольно много, но часть их не имеет следов кухонного дробления и относится к другой категории, которая объединяет остатки животных – помощников человека: собак, кошек, верблюда и лошади. Кости собак и кошек чаще всего были представлены почти полными скелетами, останки лошадей и верблюдов – разрозненными костями без следов разделки и кухонного дробления. Наиболее яркую информацию дали захоронения собак и лошадей. Они свидетельствуют о большом разнообразии размеров и экстерьера этих разновозрастных животных, что позволяет детально охарактеризовать их роль и направления их эксплуатации в рамках деятельности почтовой станции. Несмотря на то что материалы памятника относятся к Новому времени, коллекция имеет высокую научную ценность. Ее археозоологическое исследование на фоне надежного археологического и исторического контекстов станет основой для реконструкции еще одной страницы многоплановой бытовой жизни населения Российской империи.
оценивается в пределах 3–4 баллов. Насыщенность культурного слоя костными остатками животных невысокая (примерно 2 фр-та в проекции на 1 кв. м). Основу выборки составляют кухонные костные отбросы. Обнаружены также костяные орудия и другие изделия из костей. Таксономическая идентификация выявила скелетные остатки как минимум 11 видов животных. Видовой набор здесь и далее по другим памятникам перечисляется в порядке их иерархии по числу костей: крупный рогатый скот (КРС), мелкий рогатый скот (МРС) – овца и коза; лошадь, собака, свинья (домашняя или дикая), кабан дикий, благородный олень, лисица, заяц, хищная птица. В выборке присутствовали также три фрагмента человеческих костей: обломок черепа, лучевой и малой берцовой. Среди материала, собранного из первого и второго пластов в кв. 234 и 236, было обнаружено три элемента скелета молочного поросенка, на которых сохранилась жирная пленка. Кроме того, в кв. 152 на глубине второго пласта зафиксировано скопление мелких фр-тов, отличающихся цветом и сохранностью от остальных. Эти остатки составляют часть черепа и кости передней конечности теленка, возраст которого около 18 месяцев. Несомненно, эти два объекта представляют собой хронологически более поздние интрузивные захоронения. За исключением этих интрузивов, остеологический материал из Лугового-СЗ-2 является представительным и информативным источником для выявления хозяйственно-культурных особенностей поселения позднего бронзового века.
На участке 2 (в западной части памятника) зафиксированы культурные напластования эпохи поздней бронзы практически без примеси античных артефактов. Собранные в разведочном шурфе кости животных (около 200 шт.) характеризуются хорошей естественной сохранностью. Все это позволит исследовать остеологические материалы по расширенной археозоологической программе. Полная коллекция поступит на обработку в лабораторию ИА РАН после завершения раскопок.
лишь разнесенные распашкой артефакты обоих периодов и единичные кости животных. Остеологическая выборка включила 15 фр-тов удовлетворительной сохранности, которые происходят от разных элементов скелета КРС и лошади. Отнесение этого материала на основе видового набора к той или иной эпохе (вплоть до современности) некорректно. Данная малочисленная выборка, собранная вне культурного слоя и без четкой археологической атрибуции, не имеет научной ценности.
локальной территории в разные исторические эпохи. Подчеркнем, что в пределах памятника взяты пробы грунта для анализа почвенного и растительного покрова в средневековье и в античное время, результаты которого могут быть привлечены при решении этой задачи.
находки остатков одного животного в одном месте могут маркировать особые случаи, возможно – ритуальные. Такие особенности небольшой по объему остеологической выборки обозначают необходимость тщательного подхода к сбору костей и фиксации археологического контекста на данном памятнике для задач исследования хозяйственного уклада и ритуальной жизни крымско-татарских поселений Керченского полуострова.
Помимо экспертизы выборок костей животных из поселений, было проведено исследование остеологических материалов из погребальных памятников древнего населения Керченского полуострова. Решалась задача максимально полной реконструкции обрядовых действий с животными на основании изучения не только видовой и анатомической принадлежности костных остатков, но и археологического контекста сооружений, в которых они были обнаружены.
Археозоологическое исследование материалов из погребальных сооружений в курганных группах Фонтан-I и Фонтан-II, Ленинское СВ-I, а также могильниках Цементная слободка-I и Александровские скалы-I выявило среди комплексов костей животных несомненные поздние интрузивные захоронения.
Самые неожиданные результаты принесло изучение костных остатков животных из кургана Госпитальный. Здесь, в крупном погребальном сооружении IV в. до н. э., возможно, впервые были зафиксированы многократно функционирующие очаги с обгоревшими остатками животных, расположенные вблизи эсхар – специальных жертвенников для возлияний вина. Кроме ритуальных комплексов античного времени в этом же кургане были обнаружены фрагменты костей животных со следами кухонного дробления, а также остатки косторезного производства. Иная естественная сохранность таких костных фрагментов, а также приемы обработки костяного сырья не оставляют сомнений в том, что они появились не в античный период, а позже, вероятнее всего – в эпоху раннего средневековья. Кроме этого, в заполнении основного погребального сооружения – каменного склепа – выявлены целые кости задних конечностей современной собаки породы такса. Такие наборы разновременных и различных по своему назначению остеологических комплексов подтверждают установленные археологами факты неоднократных разрушений кургана и проникновений в его конструкции с разнообразными целями представителей разных культур, вплоть до недавнего времени.
Наиболее поздним из обследованных погребальных комплексов с костями животных стало захоронение пары лошадей времен Второй мировой войны вблизи кургана № 5 могильника Фонтан-II. Хронологическим маркером данной находки стало наличие в захоронении обычных в России 30–40-х гг. XX в. отечественных подков (со съемными шипами для упряжных лошадей), изготовленных заводским способом. Неповрежденное захоронение двух лошадей сохранилось in situ , все элементы их скелетов вплоть до хвостовых позвонков и мелких костей дистальных отделов конечностей были расположены в анатомическом порядке. Скелеты жеребца и кобылы обнаружены в воронкообразной яме, вероятно образованной взрывом (рис. 1). Их тела с прижатыми друг к другу спинами находились в самой глубокой части воронки, а конечности были произвольно откинуты на края ямы. По-видимому, запряженные парой лошади погибли при массированном артиллерийском обстреле. Судя по реконструируемым позам животных, жеребец погиб первым: его голова с неестественно перекрученной назад шеей оказалась под грудной клеткой кобылы. Кобыла, увлекаемая ременной упряжью, упала на него. Установленный по состоянию зубной системы возраст обоих животных около пяти лет. На фалангах жеребца зафиксированы остеофиты (окостенение боковых коротких связок), а на метаподиях – экзостозы на месте прирастания грифельных костей, так называемый накостник. Такие патологии свидетельствует об использовании этого животного как тяглового в течение нескольких лет. У кобылы, которая, по-видимому, была «пристяжной» в этой паре, остеофитов на фалангах или патологий других костей не было. Рост лошадей средний (около 125 см), типичный для рабочих лошадей 30–40-х гг. прошлого века на территории европейской части России. Чрезвычайно важно, что этот объект, выходящий за рамки сугубо археологические, но относящийся к значимым событиям недавней истории нашей страны, был расчищен с особой тщательностью и профессионализмом1.
Таким образом, во время проведения экспертизы были решены две задачи. Одна из них (главная для нашего археозоологического отряда) – оценка научного значения остеологических коллекций из девяти поселенческих и четырех погребальных памятников. При этом обработка выборок из трех памятников закончена, и ее результаты готовятся к публикации. Второй, не менее важной

Рис. 1. Захоронение лошадей времен Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.) на территории курганной группы Фонтан-II задачей, возникшей уже в процессе экспертизы, стало опознание и фиксация интрузивных захоронений и включений в собранных археологами остеологических выборках. Оказалось, что в материалах всех поселений и даже в погребальных памятниках были интрузивные захоронения полных (в той или иной мере) скелетов современных домашних животных. Ярким и однозначным примером тому могут служить захоронения пары лошадей времен Второй мировой войны (курганная группа Фонтан-II) и кости собаки современной породы (курган Госпитальный). Однако на поселениях интрузивные захоронения зачастую не поддаются выявлению. Так, останки телят были обнаружены в коллекциях трех поселений разных эпох: поздней бронзы (Луговое-СЗ-2), античности (Гор-ностаевка Восточный) и средневековья (Кенгез Восточный-17). Цвет и тафономическое состояние костей телят мало отличаются от сохранности основного массива коллекции, что не позволяет однозначно отнести их к интрузивам. Поэтому планируется провести радиоуглеродное датирование для таких остеологических комплексов, прежде всего из поселений Луговое-СЗ-2, Кенгез Восточ-ный-17 (раскоп 2).
Наличие разновременных интрузивных захоронений костей животных в культурных напластованиях археологических памятников Керченского полуострова представляется закономерным ввиду длительной истории хозяйственного освоения этого региона населением разных культур, а также в связи с масштабными военными действиями и существованием сети древних дорог в местах, близких к современному автомобильному тракту направления Керчь – Симферополь.
Несмотря на небольшие объемы поступивших на экспертизу остеологических материалов, уже сейчас на основании полученных нами и опубликованных другими исследователями археозоологических данных можно выделить несколько важных эпизодов в истории хозяйственной деятельности населения Керченского полуострова в различные исторические периоды и поставить ряд существенных вопросов, касающихся стратегий освоения природных ресурсов региона. Сравнительный анализ видовых наборов животных из указанных выше поселений показывает их принципиальное сходство, хотя эти памятники маркируют три совершенно разные эпохи. Главным ресурсом в обеспечении жителей Керченского полуострова животным белком на протяжении почти трех тысячелетий были пять видов домашних копытных – КРС, лошадь, МРС (овца и коза) и свинья. Кости этих видов составляют основу кухонных остатков на всех обследованных нами поселениях, и первое место среди них занимает КРС. Однако быки и лошадь использовались также как гужевой, верховой и вьючный транспорт. К транспортным животным можно отнести и верблюда, единичные кости которого были обнаружены на Керченском полуострове в Пантикапее ( Цалкин , 1960), а в ходе нашей экспертизы этот вид зафиксирован только в материалах средневековых поселений.
Хотя стратегии получения животного белка населением региона базировались на скотоводстве, масштабы эксплуатация других ресурсов, в том числе дикой наземной фауны, несомненно, различались в разные исторические периоды. Максимальное число костей диких животных отмечено нами на поселении эпохи поздней бронзы Луговое-СЗ-2. Главным мясным трофеем для его обитателей был кабан. Наименьшую роль охота играла в жизнеобеспечении античных поселений. По-видимому, греческая колонизация Северного Причерноморья внесла первые радикальные изменения в структуру экономики всего населения Керченского полуострова. В этом плане важно подчеркнуть, что многочисленные остатки рыб и дельфинов на прибрежных античных памятниках Керченского полуострова и крупные рыбоперерабатывающие центры здесь же, в городах европейского Боспора, свидетельствуют о значительных масштабах рыболовства в ту эпоху ( Марти , 1941; Лебедев, Лапин , 1954; Гайдукевич , 1952а; 1952б; Цал-кин , 1960; Кругликова , 1975; Куликов , 2005; Morales et al. , 2007; и др.).
Однако ни в одной из проанализированных нами выборок из памятников античного и позднесредневекового времени не обнаружилось следов использования водных (морских/речных) ресурсов, возможно, потому, что эти памятники расположены во внутренней части Керченского полуострова – приблизительно в 10–20 км от побережий как Азовского, так и Черного моря. Вероятно, такая ситуация отражает оформление начавшейся в античную эпоху территориальной специализации населения. Хотя для средневекового населения Керченского полуострова даже на побережьях хозяйственные традиции освоения морских ресурсов по остеологическим материалам остаются пока малоизвестными. Письменные же источники обозначают яркое оживление морского рыболовного промысла на обсуждаемой территории после присоединения Крыма к России ( Небожаева , 2008).
В процессе проведения экспертизы мы еще раз убедились, что сами по себе археозоологические материалы не могут дать однозначную информацию о направленности и структуре хозяйственной деятельности жителей конкретных поселений. Для подобных интерпретаций необходимы надежный археологический контекст, информация о других занятиях населения разных эпох по артефактам (в том числе и костяным орудиям), а также почвоведческие и археобота-нические данные.
Список литературы Результаты экспертной оценки научной значимости остеологических коллекций из археологических раскопок в зоне строительства автотрассы "Таврида" на Керченском полуострове
- Антипина Е. Е., 2009. Ростиславльское городище дьяковского времени: археозоологические материалы из раскопок 2002-2006 гг.//Аналитические исследования лаборатории есте-ственнонаучных методов. Вып. 1. М.: ИА РАН. С. 146-171.
- Антипина Е. Е., 2016. Современная археозоология: задачи и методы исследования//Междис-циплинарная интеграция в археологии (по материалам лекций для аспирантов и моло-дых сотрудников). М.: ИА РАН. С. 96-117.
- Гайдукевич В. Ф., 1952а. Раскопки Тиритаки в 1935-38 гг.//Боспорские города. Ч. 1: Итоги археологических исследований Тиритаки и Мирмекия в 1935-1940 гг. М.; Л.: АН СССР. С. 15-134. (МИА; № 25.)
- Гайдукевич В. Ф., 1952б. Раскопки Мирмекия в 1935-38 гг.//Боспорские города. Ч. 1: Итоги археологических исследований Тиритаки и Мирмекия в 1935-1940 гг. М.; Л.: АН СССР. С. 135-220. (МИА; № 25.)
- Кругликова И. Т., 1975. Сельское хозяйство Боспора. М.: Наука. 300 с.
- Куликов А. В., 2005. Археологические свидетельства рыболовства на античном городище Ак-ра//Боспорские исследования. Вып. 9. Симферополь; Керчь: Деметра. С. 251-270.
- Лебедев В. Д., Лапин Ю. Е., 1954. К вопросу о рыболовстве в Боспорском царстве//Материа-лы по археологии Северного Причерноморья в античную эпоху. М., Л.: АН СССР. С. 197-214. (МИА, № 33.)
- Марти Ю. Ю., 1941. Новые данные о рыбном промысле в Боспоре Киммерийском по раскоп-кам Тиритаки и Мирмекия//СА. Т. VII. С. 94-106.
- Небожаева Н. В., 2008. Из истории рыбных промыслов Керчи (конец XVIII -начало XX в.)//Научный сборник Керченского заповедника. Вып. II. Керчь. С. 368-386.
- Цалкин В. И., 1960. Домашние и дикие животные Северного Причерноморья в эпоху раннего железа//История скотоводства в Северном Причерноморье. М.: АН СССР. С. 7-109. (МИА; № 53.)
- Яворская Л. В., 2012. Костные останки животных из раскоПА CLXII города Болгара: некото-рые новые методы обработки и оценки археозоологических материалов//ПА. № 1. С. 216-237.
- Яворская Л. В., 2015. Динамика заполнения костями животных центральной части Болгарско-го городища как показатель интенсивности жизнедеятельности его обитателей//КСИА. Вып. 237. С. 239-251.
- Morales А., Antipina Е., Antipina А., Roselló Е., 2007. An ichthyoarchaeological survey of the ancient fisheries from the Northern Black Sea//Archaeofauna. Vol. 16. Р. 117-172.