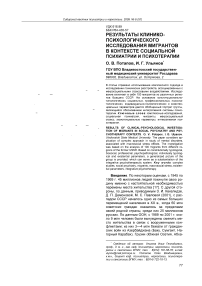Результаты клинико-психологического исследования мигрантов в контексте социальной психиатрии и психотерапии
Автор: Потапов Олег Владимирович, Ульянов Илья Геннадьевич
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Социальная психиатрия
Статья в выпуске: 6 (57), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье отражено использование комплексного подхода в исследовании психических расстройств, ассоциированных с макросоциальными стрессовыми воздействиями. Исследование включает в себя 100 мигрантов из различных регионов бывшего СССР. На основании конституционально-типологических, социальных, профессиональных, психопатологических, индивидуально-психологических и экзистенциальных параметров дается обобщенный портрет группы, являющийся обоснованием интегративной системы психотерапии.
Комплексные исследования, социальная психиатрия, мигранты, макросоциальный стресс, экзистенциальные параметры, интегративная психотерапия
Короткий адрес: https://sciup.org/14295391
IDR: 14295391 | УДК: 616.89
Текст научной статьи Результаты клинико-психологического исследования мигрантов в контексте социальной психиатрии и психотерапии
В статье отражено использование комплексного подхода в исследовании психических расстройств, ассоциированных с макросоциальными стрессовыми воздействиями. Исследование включает в себя 100 мигрантов из различных регионов бывшего СССР. На основании конституциональнотипологических, социальных, профессиональных, психопатологических, индивидуально-психологических и экзистенциальных параметров дается обобщенный портрет группы, являющийся обоснованием интегративной системы психотерапии. Ключевые слова : комплексные исследования, социальная психиатрия, мигранты, макросоциальный стресс, экзистенциальные параметры, интегративная психотерапия.
RESULTS OF CLINICAL-PSYCHOLOGICAL INVESTIGATION OF MIGRANTS IN SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY CONTEXTS . O. V. Potapov, I. G. Ulyanov . Vladivostok State Medical University . The paper considers application of complex approach in study of mental disorders, associated with macrosocial stress effects. The investigation was based on the analysis of 100 migrants from different regions of the former USSR. Based on constitutionally typological, biosocial, professional, psychopathological, individually typological and existential parameters, a generalized picture of the group is provided, which can serve as a substantiation of the integrative psychotherapeutic system. Key words : complex studies, social psychiatry, migrants, macrosocial stress, existential parameters, integrative psychotherapy.
Введение. По некоторым оценкам, с 1945 по 1969 г. 45 миллионов людей покинули свою родину именно с настоятельной необходимостью перемены места жительства [17]. С другой стороны, по данным, приводимым З. И. Кекелидзе, Д. П. Демоновой, М. С. Павловой (2001), с распадом СССР началось одно из самых больших перемещений населения в XX в., когда 60 млн советских граждан оказалось за пределами своей родной страны, среди них 25 миллионов русских. По данным ООН, с 1989 по 2001 г. около 9 млн человек были вынуждены сменить место жительства в связи с вооруженными конфликтами; из них 3—4 млн бежали от гражданских войн из Азербайджана (Баку, Сумгаит, Нагорный Карабах), Грузии (Южная Осетия, Абха- зия), Чечни, Таджикистана, других стран Средней Азии [5]. С 1991 по 1996 г. в Россию приехали почти 3 млн вынужденных переселенцев из ближнего зарубежья (Население России, 1997), из них не менее 80 % составляют русские. Рекордные цифры миграции были зафиксированы в 1992 г., когда в среднем прибывало 2 672 человека в месяц. В 1995 г. в результате войны в Чечне (первая кампания) было зафиксировано 272 000 вынужденных переселенцев. В конце 1999 г. только регистрационная служба Республики Ингушетии зафиксировала более 150 000 людей, мигрировавших из Чечни, что вдвое увеличило население республики. Помимо мигрантов из СНГ, внутренних мигрантов и беженцев из Чечни, третьей группой являются беженцы из дальнего зарубежья: по данным ООН, к концу 2000 г. было зарегистрировано 38 000 человек, ищущих убежища в РФ, из них более 70 % – афганцы [11]. Мигранты являются группой людей с затронутой социокультурной и индивидуальной идентичностью, у которых наблюдаются расстройства адаптации макросо-циального генеза (РАМГ) с разнообразными психологическими и клиническими проявлениями, начиная с острых реакций на стресс и заканчивая психотическими нарушениями. Даже по прошествии многих лет после миграции, обусловленной военными событиями, у людей наблюдаются хронические (стадийные и отсроченные) посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) [2, 5, 11, 12, 17, 21, 26]. Актуальность исследования продиктована стратегическими задачами, стоящими перед социальной психиатрией [1, 3, 8, 10], и прикладными – психотерапевтическими аспектами работы с разными группами людей, переживших воздействие макросоциального стрессора.
Цель исследования – изучение биосоциальных, клинических, психологических, экзистенциальных показателей в группе мигрантов для выработки системы дифференцированной терапии пациентов с расстройствами адаптации макросоциального генеза (РАМГ).
Материалы и методы. В рамках исследования различных социально дезадаптированных групп населения нами исследовано 100 мигрантов. Большинство пациентов относились к активному зрелому возрасту – 86 человек в возрасте от 20 до 60 лет. Средний возраст в группе составил 43,7 года. Женщины преобладали в исследовании – 62 человека (62 %), мужчин – 38 человек (38 %). Средний возраст женщин составил 40,87 года, средний возраст мужчин – 48,21 года.
В исследовании преобладали россияне, приехавших в Приморье из других регионов Дальнего Востока после землетрясения и вследствие опасной экологической ситуации на фоне социально-экономической нестабильно- сти (закрытие шахт, предприятий; о. Сахалин, п-ов Камчатка) – 29 человек; из бывших республик СССР в результате военных событий и гонений русских (Таджикистан, Узбекистан, Армения, Грузия) – 38 человек. Двое бурят из Читинской области покинули ее вследствие тяжелой социально-экономической и климатической ситуации. Остальные мигранты и вынужденные переселенцы (беженцы) – 31 человек – приехали в Приморье, избегая войн, нищеты и нестабильности в собственных странах (Таджикистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан); после землетрясения в Спитаке (Армения) – 2 человека.
Большинство в исследовании были в браке – 46 человек: однократно – 37, повторно – 9. Примерно каждый пятый (18 человек) был в разводе; 11 человек потеряли партнера (вследствие катастрофы, несчастного случая, болезни с летальным исходом). Каждый четвертый (25 человек) в исследовании не связывал себя узами брака. Высоко число детей на иждивении (младше 16 лет): у женщин – 64, у мужчин – 25.
Распределение пациентов по степени психологической травматизации, обусловившей и/или включенной в процесс миграции, вынужденного переселения было следующим. Группа А – психосоциальный кризис без травматизации – включает 48 человек. Группа В – пережили травму (угрозу жизни, достоинству и чести), но без потерь родных и близких – 31 человек. Группа С – наиболее пострадавшие люди, пережившие насилие над собой и своей семьей, гибель родных, – 21 человек.
Теоретическим основанием данных исследований является комплексная модель, ориентированная на проблемы социальной психиатрии и психотерапевтической коррекции расстройств, ассоциированных с макросоциальны-ми стрессовыми воздействиями. Соотношение восьми терапевтических параметров в их статике (на начальных этапах профилактики, коррекции, реабилитации) и динамике в процессе жизненных и терапевтических изменений лич-ности/группы [1—4, 7—10] и методов исследования отражены в предыдущих статьях в «Сибирском вестнике психиатрии и наркологии» (2007 г. № 4, 2009 г. № 2).
Результаты исследования. Клинические характеристики. В качестве ведущей патологии диагностированы расстройства адаптации (РА) вследствие воздействия макросоциально-го стресса – 54 человека: у 36 выявлены невротические расстройства, у 18 – диагностировано ПТСР. Реактивные расстройства (F23.9*1: острые и транзиторные психотические расстройства) в катамнезе выявлены у 2 человек (причиной явилась биологическая реакция на землетрясение): хроническое течение ПТСР, аддитивный и отрицающий варианты. Неврозы представлены следующей структурой: фобические расстройства – 9 человек; конверсионные расстройства – 9; депрессивные расстройства – 5; тревожные расстройства – 5; тревожнодепрессивные расстройства – 4; обсессивнокомпульсивное расстройство – 4.
На втором месте в структуре заболеваемости психосоматические расстройства – у каждого четвертого (25 человек) диагностировано телесное страдание (которое и явилось причиной обращения за медицинской помощью), четко ассоциированное с негативными эмоциями и конфликтными состояниями, которые, в свою очередь, имеют причинно-следственные и содержательные (образы прошлого, сновидения) отношения с воздействием макросоциального стрессора.
Выраженная алкогольная зависимость, ведущая в личностной и клинической картине, диагностирована у 2 человек. В качестве сопутствующего расстройства химическая аддикция выявлена у 49 человек: злоупотребление алкоголем – у 37, транквилизаторами – у 9, препаратами cannabis sativa – у 3.
Личностные (в том числе по типу borderline) расстройства выявлены у 4 человек: параноидное, диссоциальное, эмоционально неустойчивое, диссоциативное – по 1 случаю. Нарушения психотического уровня наблюдались в 2 случаях: шизофрения, параноидная форма, прогредиентное течение и МДП, умеренный депрессивный эпизод с соматическими симптомами. Реактивные психозы в катамнезе наблюдались у 2 человек с диагнозом хроническое ПТСР. В соответствии с отечественной динамической систематикой расстройств невротического регистра [4, 7, 10, 12] в группе выявлены следующие стадии процесса: реакции – 3 человека (3,70 %), состояния – 44 (54,32 %), развития – 34 (41,98 %), что отражает выраженную тяжесть невротических нарушений.
Синдромологически варианты РА и ПТСР распределились следующим образом: тревож- но-депрессивный – 12 человек (22,2 %); панический – 11 (20,37 %); отрицающий – 8 (14,81 %); соматоформный – 7 (12,96 %); аддитивный – 6 (11,1 %); дисфорический и астенический варианты – по 5 человек (9,26 %).
В соответствии со стереотипической характеристикой РАМГ Б. С. Положего [1, 14] типы переработки макросоциального стресса распределились следующим образом: аномический – 18 человек (33,33 %), диссоциальный («агрессивно-деструктивный») – 14 (25,92 %), магифренический – 22 (40,74 %).
Клинико-психологические характеристики . Антропометрически [6, 20] выявлено следующее распределение типов: астенический тип – 23 %; нормостенический – 51 %; пикнический – 26 %.
Гиссенский тест соматических жалоб . Выраженность психосоматических нарушений в группе высока; получены следующие показатели по 5 шкалам: «истощение» – 53,8 %; «желудочные жалобы» – 47,3 %; «ревматический фактор» – 40 %; «сердечные жалобы» – 46,2 %; «интенсивность жалоб» – 46,8 %.
Акцентуация по К. Леонгарду (Тест Шмишека). Акцентуированность группы (совокупная 97 %) распределилась следующим образом: демонстративная (16,49 %), застревающая (15,46 %), циклотимная (11,34 %), возбудимая (11,34 %), тревожная (9,28 %), экзальтированная (8,25 %), дистимичная (7,22 %), шизоидная (6,2 %), эмо-тивная (6,2 %), педантичная (5,16 %), гипер-тимная (3,09 %).
Тип по К. Юнгу и Д. Кейрси [19]. В качестве ведущего совокупного типологического профиля характера был выявлен тип ESFJ (экстра-вертированность, сенсорность, чувствительность, решительность). В соответствии с Д. Кейрси данный профиль соответствует неврастеническому и дисфорическому клиническим вариантам развития типов. Это означает, что при развитии психопатологии наблюдаются нервное истощение, тревожность и эксплозив-ность, что подтверждается результатами МЦВ.
Ориентация характера по Э. Фромму [16]. Психосоциальные ориентации в порядке убывания распределились следующим образом. 1) Зависимая (впечатлительная, берущая, мазохистская, преданная; оральная) – 33 % исследованных. 2) Сберегающая (накапливающая, стяжательская, деструктивная, настойчивая; анально-сберегающая) – 29 %. Примерно одинаково распределились два следующих активных, экстравертивных, конкурирующих типа. 3) Авторитарная (эксплуататорская, порабощающая, садистская; анально-агрессивная) – 19 %. 4. Рыночная (обменивающая, равнодушная, отстраненная; эдипальная) – 15 %. 5. Плодотворная ориентация выявлена в 4 наблюдениях, ассоциируясь со следующими признака- ми: высокая квалификация и образование (стойкое когнитивное русло); благоприятная семейная среда и преемственность семей-ной/общинной/религиозной традиции; отработанные, конгруэнтные социальные навыки; способность к изменениям и чувство юмора.
Тревожность: 1) тест Ч. Д. Спилбергера на ситуативную тревожность; 2) тест Тейлора (MAS; Taylor J. A. 1953) в модификации Т. А. Немчина (1966) [24, 25].
Высокая дезадаптивная тревога наблюдалась у 91 пациента (в 91 % случаев). Витальная дезактивация наблюдалась у 38 человек (38 %). Тревожная акцентуированность (личностная тревожность на основании теста Шмишека) была выявлена у 9 человек. Негативные субъективные оценки отражают высокий тревожный, субдепрессивный фон в исследуемой группе.
Значительное преобладание в группе имела социальная тревога, которую отмечало 67 респондентов (>50 % положительных ответов). Психический компонент тревоги выделили 40 человек. Соматический компонент выделили 34 человека, что на фоне выраженной психосоматической патологии свидетельствует об анозог-нозии, игнорировании соматического состояния при вынужденном усиленном (гипертрофированном) внимании к психосоциальной сфере. Психосоциальные ориентации по Э. Фромму преимущественно дефицитарны.
Агрессивность . Выявлена у 83 человек: вербальная – 35; физическая – 16; предметная – 10; эмоциональная – 13; аутоагрессия – 9 человек. Высокая общая деструктивная агрессивность, очень высока аутоагрессия (10,84 %).
Тест Э. Хайм [18]: механизмы совладания преимущественно дезадаптивные, что отражено в разнице адаптивного и дезадаптивного САВ (когнитивно-эмоционально-поведенческих) индексов Δ (САВ) – 13. Адаптивный копинг: когнитивный (17 %), эмоциональный (36 %), поведенческий (43 %). Относительно адаптивный: когнитивный (24 %), эмоциональный (14 %), поведенческий (31 %). Дезадаптивный: в когнитивной (59 %), в эмоциональной (50 %), в поведенческой (26 %) сферах.
МЦВ (тест Люшера). В качестве ведущих выявлено 4 следующих цветовых профиля (ЦВ):
ЦВ 1 : 67 03 25 41 – возбужденно-изнуренный, тревожно-беспокойный профиль. Краткое описание ЦВ 1 : выраженные тревога и страх стимулируют избыточную активность, которая противоречит внутренней потребности покоя, вызывая истощение и эмоциональную неустойчивость.
ЦВ2: 25 07 31 64 – ориентированный на достижение при недоверии к миру, другому. Кратко ЦВ2: изолированность и беспокойство, компенсируемые оригинальностью и демонстративностью; иррациональная схема враждебных меж- личностных отношений. Конфликт: потребность в признании – ее неудовлетворенность, стимулирующая индивидуализм и активность.
ЦВ 3 : 54 37 26 10 – истерический – неустойчивый профиль (в том числе магифренический). Кратко ЦВ 3 : иррациональный копинг, связывающий улучшение с активностью (которая носит разнонаправленный характер) и новыми отношениями, которые не оправдывают ожиданий, усиливая тревогу и обусловливая бегство в «иллюзию» (circulus vitiosus: неудовлетворенная потребность в признании – иррациональная активность – болезненные опыты – уход – усиление потребности).
ЦВ 4 : 07 16 54 23 – протестно-агрессивный – психосоматический профиль. Кратко ЦВ 4 : аутоагрессия, обусловливающая психосоматические нарушения; раздраженная импульсивность, обусловливающая негативные результаты общения и деятельности.
Суммарное отклонение от аутогенной нормы (СО). ЦВ 1 : СО=30 (при max значении 32); А (выраженность тревоги) 11! (при max значении 12). ЦВ2: СО=24; А5! ЦВ3: СО=14; А2! ЦВ4: СО=32; А11! Общегрупповой среднеарифметический коэффициент вегетативного баланса (КВБ)=1,23 (эрготропный тонус). СО=25 (состояние сильного психоэмоционального напряжения). Тревожность: А=7,25!
PIL (тест смысложизненных ориентаций) [13, 15]. Осмысленность жизни (ОЖ) в группе несколько снижена (56,9 %) для мужчин и входит в нижний предел «нормальных оценок» для женщин. Ведущая смысловая значимость ориентирована на прошлое, результат (62,6 %). За ней следует перспективная ориентация – цели, составившие 57,2 %. Неудовлетворенность жизнью в настоящем (процесс – 52,2 %) отражает личностную неудовлетворенность в связи с вышеуказанными причинами: последейст-вие/переработка психотравмирующих событий, смена социокультурного стереотипа, экономическая и социальная неустойчивость. Снижены показатели «Локус контроля – жизнь» (45,2 %) при выраженном «Локус контроле – Я» (74,2 %). Смысловая фрустрация не является проблемной зоной данной группы в связи с «вынужденной вовлеченностью» в жизненный процесс, необходимостью адаптироваться и решать насущные жизненные задачи в новой социокультурной среде.
При этом наблюдается высокая оценка значимости прошлого (результат – 62,6 %) и несколько ниже «нормальных оценок» баллы, связанные с личностной перспективой (цели – 57,2 %); настоящее же в целом оценивается как неудовлетворительное, что говорит о ретроф-лексивных и проективных механизмах, мешающих человеку жить в настоящем (процесс – 52,2 %). Также эта неудовлетворенность связа- на с большим напряжением или зависимостью в настоящем, которое предъявляет более высокие требования по сравнению с привычной (родной) социокультурной средой до кризиса, повлекшего миграцию. Наиболее высоки показатели по субшкале «Локус контроля – Я» (74,2 %), что соответствует ницшеанскому «Что меня не убивает, то делает сильнее»: страдания делают личность сильнее, стимулируя ее «авторство»; еще одним фактором является высокий уровень идеализации собственного образа в рамках конверсионного личностного радикала, широко представленного в группе. Самые низкие показатели по субшкале «Локус контроля – жизнь» (45,2 %) связаны с катастрофическими и пограничными глобальными событиями, которые значительно изменили внутреннюю картину мира (ВКМ) респондентов, затронув ее основы. Каждый член группы исследования в той или иной мере отразил, что его «базисное доверие миру» пошатнулось/рухнуло вследствие этих событий, и в целом оценка взаимоотношений «человек – мир» стала более негативной до рассматриваемых событий.
POI (тест на самоактуализацию) [22, 23]. Среднеарифметическое значение по всем шкалам составило 43,3 %. В целом самоактуализа-ционные тенденции в группе испытуемых незначительно снижены, колеблясь в среднем от 39,3 % (наиболее низкий показатель по шкале ценности) до 49,3 % по шкале аутосимпатии. Показатели шкал в порядке возрастания распределились следующим образом: ценности – 39,3 %, взгляд на природу человека – 40,6 %, ориентация во времени – 40,6 %, автономность – 41,3 %, потребность в познании – 42,0 %, спонтанность – 43,3 %, креативность – 44,0 %, гибкость в общении – 44,0 %, самопонимание – 46,0 %, контактность – 48,0 %, аутосимпатия – 49,3 %.
Интраперсональный конфликт и стратегия реагирования в ситуации макросоциального стрессового воздействия могут быть описаны следующим образом: 1) истощение (внутреннее) – повышенная активность (внешняя); 2) иллюзорные защиты, противопоставленные жесткой, отчужденной, непонятной реальности; 3) преимущественная аутоагрессия и гетероагрессия – социально одобряемая персона (положительная социальная маска); 4) вынужденное «авторство» в противовес внутреннему желанию избежать ответственности, сложить ее тягостный груз на чужие плечи, что определяет высокую зависимость в группе.
Фон: травматические опыты в прошлом и ситуация социального отчуждения в настоящем, определяющие тревожно-депрессивную основу функционирования. Фигура: 1) агрессивная активность; 2) иллюзия, надежда, фантастичность ожиданий; 3) зависимости и/или телесная ис- тощенность с формированием психосоматических расстройств. Резервы: гибкость, желание общности, семейные/традиционные ценности. Копинг: преимущественно иррациональный, фундаментально диссертивный. Высокий деза-даптивный: в когнитивной (59 %), в эмоциональной (50 %), в поведенческой (26 %) сферах. Социальная активность гипертрофирована в ущерб процессам личностного развития. Ведущие адаптивные стратегии: установка собственной ценности (9 %), сохранение самообладания (7 %), оптимизм (25 %), протест (11 %), обращение (19 %), альтруизм (13 %), сотрудничество (11 %). Тень: 1) вытесненная аутоагрессия, преобладающая над гетероагрессией, проявляющаяся в психосоматических расстройствах, саморазрушительном поведении (зависимость), недоверии другим и окружающему миру, психотически (у двух человек); 2) ранимость, обидчивость, неудовлетворенность системой отношений; 3) плохо осознаваемые защитные механизмы: отрицание, вытеснение, нетерапевтическое отреагирование, проекция, ретрофлексия.
Выводы . Общее состояние группы можно охарактеризовать как социокультурную дезориентацию. Стратегия реагирования: макросоци-альное воздействие, повлекшее за собой миграцию → новая среда, требующая повышенной активности (обретение жилья, работы, новых социальных связей) и перенапрягающая уже истощенные механизмы адаптации, углубляющая личностный дефицит → 1) конверсионное; 2) стеническое, напряженное; 3) психосоматическое; 4) тревожно-депрессивное, маскированное аддикцией, реагирование → повышенные ожидания, требования от социальной среды → их неоправданность → усиление патологического реагирования и углубление патологии → «уход» (различные формы избегания: поведенческое, психосоматическое, аддик-тивное, психотическое); изнуряющая, раздраженная стеничность; стойкие психосоматические и аддитивные расстройства → социокультурная и индивидуальная дефицитарность, объективизированная в выраженной психопатологии.
Ведущим психотерапевтическим запросом явилось получение ресурса и компенсация дефицита с самой низкой мотивацией – выявлен у 65 человек (65 %). Средняя мотивация в терапии выявлена у 31 человека (31 %); они были ориентированы на разрешение внутри- и межличностных конфликтов. Наконец, самая глубокая, интегративная работа была в процессе терапии запрошена 4 человеками (4 %). Построение взаимосвязей между количественной (клинико-экспериментальные данные) и качественной (антропостратегия или хронобиологическая тенденция) моделями представляет трудности, однако, несомненно, что психотерапевтический запрос и мотивация в терапии имеют высокую положительную корреляцию с вектором антропостратегии. Заключение по групповому распределению антропостратегий ориентируется на всю совокупность проведенных исследований и дневниковые записи, отражающие проективную, образную, медитативную, аналитическую и интегративную компоненты работы. В группе исследования А стратегия (развитие) выявлена у 25 человек (25 %), являясь высоким показателем, учитывая средний групповой возраст 43,7 года на фоне социокультурных трудностей; В стратегия (плодотворность) – у 4 человек (4 %, что представляется недостаточным показателем); L вектор (зависимость, неистин-ность) имеет наибольшую выраженность в группе – диагностирован у 43 человек (43 %); D вектор (дефицитарность) представлен незначительно – выявлен у 28 человек (28 %), что связано с необходимостью изменений во сферах, побуждающих к личностной активности (векторы А и В) или псевдоактивности (вектор L).
Психотерапевтическое заключение. Психотерапевтический план, исходящий из полученных результатов, включает три стратегических задачи терапии и консультирования. 1. Ведущее значение имеют насыщение архаических потребностей; активизация внутрилич-ностного ресурса, по возможности – социального, образовательного, юридического, материального. Выравнивание и оптимизация идеальных и реальных образов и отношений «я – мир», «я – общество». 2. Социокультурное консультирование и терапия; тренинг социокультурной ассертивности; семейная терапия. 3. Отработка релятивистского восприятия и функционирования «здесь-и-сейчас» в телеологическом контексте. Проживание и включение в структуру личности психотравмирующих событий и переживаний. Ценность и уникальность человеческой жизни в общечеловеческом и индивидуальном контекстах. При ПТСР – работа с психотравмирующими событиями, переживаниями (выражение тревоги, обиды, вины, гнева и других негативных эмоций) и их переработкой, формирование позитивного и более устойчивого образа «Я» [4, 11, 12, 17, 21, 26].