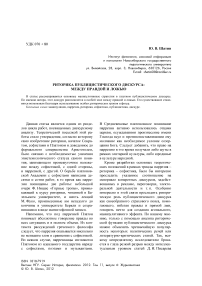Риторика публицистического дискурса: между правдой и ложью
Автор: Шатин Юрий Васильевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискурс СМИ
Статья в выпуске: 6 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные манипулятивные стратегии в газетном публицистическом дискурсе. По мнению автора, этот дискурс располагается в особой зоне между правдой и ложью. Его существование становится возможным благодаря использованию особых риторических тропов и фигур.
Манипуляция, паррезия, риторика, софистика, публицистика, дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/14737867
IDR: 14737867 | УДК: 070
Текст научной статьи Риторика публицистического дискурса: между правдой и ложью
Данная статья является одним из разделов цикла работ, посвященных дискурсному анализу. Теоретической посылкой этой работы стало утверждение, согласно которому само изобретение риторики, начатое Сократом, софистами и Платоном и доведенное до формального совершенства Аристотелем, было связано с необходимостью уяснения эпистемологического статуса самого понятия, занимающего промежуточное положение между софистикой, с одной стороны, и паррезией, с другой. О борьбе платоновской Академии с софистами написаны десятки и сотни работ, в то время как парре-зии посвящены две работы: небольшой очерк Ф. Ницше «Горные тропы», примыкающий к курсу риторики, читанной в Базельском университете, и шесть лекций М. Фуко, произнесенные им незадолго до кончины в университете Беркли и сохранившиеся в виде магнитофонной записи.
Напомним, что под паррезией Платон понимает абсолютное говорение правды во всех ситуациях и в полном объеме. Из контекста рассуждений греческого философа следует, что паррезия оказывается нисколько не меньшим злом в сравнении с софистикой. Во всяком случае, паррезианцы изгоняются Платоном из идеального государства наряду с софистами, поэтами и музыкантами.
В Средневековье платоновское понимание паррезии активно использовалось отцами церкви, осуждавшими произнесение имени Господа всуе и противопоставлявшими ему молчание как необходимое условие созерцания Бога. Следует добавить, что право на паррезию в это время получали либо шуты в рамках элитарной культуры, либо юродивые в культуре народной.
Кроме разработки основных теоретических положений в рамках триады паррезия – риторика – софистика, было бы интересно проследить указанное соотношение на материале конкретных дискурсов, задействованных в рекламе, переговорах, электоральной деятельности и т. п. Особенно интересно в этой связи проследить риторическую роль публицистического дискурса как своеобразного страхового пояса, помогающего, избегая правды и прямой лжи, говорить нечто для создания агонального, манипулятивного эффекта. По нашему мнению, только с помощью анализа риторической функции публицистического дискурса можно объяснить чрезвычайную популярность некоторых политических речей или литературно-критических статей. Так, всякому непредвзятому исследователю бросается в глаза резкий разрыв между интеллектуальным уровнем статей Д. И. Писарева
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 6: Журналистика © Ю. В. Шатин, 2012
и той фантастической популярностью, которой они пользовались у современников. Представляется, что во всех подобных случаях успех обусловливается абсолютным попаданием в точку бифуркации риторического поля, в результате которого создатель публицистического дискурса, действуя подчас против законов оптики, поражает выстрелом почти неуловимую движущуюся мишень.
В этой ситуации только теоретический анализ может объяснить и отчасти деконст-руировать манипулятивный эффект публицистического дискурса. Лишь обнаружив запрятанные в публицистическом тексте тропы и фигуры риторики, мы сможем наглядно продемонстрировать, почему те или иные высказывания, лежащие в зоне между правдой и ложью, воспринимаются обыкновенным читателем как истина в последней инстанции.
В современном русском языке существует несколько слов для обозначения обмана: дезинформация, блеф, кривотолки, подтасовка фактов, опора на слухи, фабрикация событий, розыгрыш и др. Ни одно из этих определений не раскрывает сущности манипуляций, поскольку эффект любой манипуляции заключен не в фактах, но в особом способе употребления риторических фигур, формирующих тот или иной тип дискурса.
В качестве примера употребления риторики для создания манипулятивного эффекта можно рассмотреть фрагмент статьи публициста и театрального режиссера С. Кургиняна «Четвертый вариант» 1. Статья состоит из двух частей, первая из которых содержит маловразумительные рассуждения о перспективах российской власти, зато вторая, посвященная событиям в Ливии, явно рассчитана на агональный эффект и в этом качестве воспринимается частью читателей. Если учесть, что в дуэльном шоу с Н. Сванидзе Кургинян часто набирает большее число голосов, можно предположить, что и этот материал обретет своих поклонников.
Итак, рассмотрим тропы и фигуры именно в той последовательности, в какой они используются автором. Начинается данный фрагмент с фигуры ложной генерализации, смысл которой – внушить читателю, что за достаточно частным случаем политической истории кроются глобальные проблемы. «Убит Каддафи или нет – я не знаю. Но только я знаю точно несколько вещей, имеющих прямое отношение к исторической судьбе народов прежде единого государства, к судьбе наших элит и наших абсолютно неэлитных сограждан».
Если первая часть абзаца направлена на создание некоего «объективного» фона, то последующая риторическая градация незримым образом вводит субъективное мнение автора. Из того факта, что убийство Каддафи повлияет на судьбу Джамахирии (в общем-то вероятного и справедливого) делается вывод, что оно тем самым угрожает судьбе российских властных элит, но не только… оно угрожает всем нам, гражданам России (что совершенно недоказуемо). Две первые фразы связаны прочной метонимической связью, а третья и четвертая, в свою очередь, также находятся в отношении смежности. Но между ними лежит зазор, пустое смысловое пространство, которое никак не мотивируется публицистом, но зато создает для читателя, обуреваемого теорией заговора, головокружительную возможность построения самых невероятных версий.
Другим важным приемом, взывающим к агональному эффекту, является использование специальных риторических единиц – энтимем, закамуфлированных под силлогизмы. Как известно, в логике различают истинные и ложные силлогизмы. «Все люди смертны. Кай – человек. Кай смертен» – истинный силлогизм. Стоит только нарушить закон достаточного основания в одной из посылок, как силлогизм делается ложным. «Все негры курчавы. Петр курчав. Петр – негр». Вся хитрость приема публициста Кургиняна заключена в том, что он фактически употребляет не силлогизмы, а энти-мемы, которые, по Аристотелю, не могут быть истинными или ложными, поскольку не являются частями доказательства, а выступают как доксы, т. е. некоторые непроверяемые стереотипные субъективные суждения. Было бы крайне несправедливым обвинить Кургиняна в прямой лжи, но, будучи спрятанной под маской силлогизма, энтимема в глазах свободного от риторических изысков читателя вполне кажется силлогизмом и может читаться как аргумент.
В отличие от силлогизмов, использующих денотативные измерители языка, энти-мемы всегда тяготеют к коннотативному сдвигу. Как часть коннотативной семантики они направлены на подмену знания мнением. Недаром в своем курсе риторики Ницше указывал, что нет «никакого не-ритори-ческого, “естественного” языка, который можно было бы использовать как исходную точку: сам по себе язык – это результат риторических трюков и приспособлений. Язык риторичен, ибо он стремится передавать только doxa (мнение), а не episteme (истину)» [Де Манн, 1999. С. 129]. Язык Кургиняна воистину риторичен, и как всякий риторический язык, он тавтологичен. Если логика и теория аргументации отвергают прием порочного круга в качестве приема доказательства, то в риторике тавтология каждый раз усиливает эмоциональный накал высказывания, заражая своей суггестией доверчивого читателя. «Мразь – это мразь, а герой – это герой».
Несмотря на многочисленные тавтологии, риторика статьи Кургиняна оказывается более сложной. Антитеза героя Каддафи и некоей неопределяемой мрази развивается до кошмаров в духе известных работ Гойи. Поскольку до сих пор неизвестно, был ли вождь Джамахирии убит или смертельно ранен при бомбардировке, диада превращается в триаду: герой – мразь – нелюдь. Благодаря введению образа нелюди к четвертому тезису статьи авторские страсти достигают апогея. «Надо приличным людям объяснить, чем мразь отличается от нелюди. Тем же, чем смрад помойки отличается от смрада ада». Сила подобного агонального приема заключается в том, что под грохот риторических литавр вводится мотив инфернальности. Теперь читатель уже ничего не анализирует, он просто дрожит, запуганный образами ада. «Они придут к нам в дом. Очень скоро придут», а нашим властям, если они не впали в сладкую кому, должна быть ясна «перспектива оказаться трупами, лежащими на обозрении в супермаркетах».
В блестящем и почти безошибочном манипулятивном механизме статьи Кургиняна вкрался маленький риторический прокол. Он – в пятом тезисе. «Я знаю регион и говорю стопроцентную правду». Здесь уже явный перебор. Ведь надев маску объективности и беспристрастного аналитизма, аго- нальный коммуникант не должен снимать ее до конца сеанса ни в коем случае – это может полностью разрушить перформанс.
В одном из самых замечательных трудов прошлого века «The Myth of the State» Э. Кассирер вскрыл технологию политического мифа, в котором всегда «сочетаются отчаяние и неколебимая надежда. Человек ощущает глубокое неверие в себя, в свои личные способности. В то же время он сверх меры верит в могущество коллективных желаний и действий. Волшебник, чародей, колдун обретают силу потому, что действует не как отдельная личность – в нем собрана и сосредоточена мощь всего племени» [1993. С. 156].
Наряду с отчаянием надежда есть и в статье Кургиняна. «Словом, объединяемся мы, дабы не оказаться сброшенными в ад. А это и есть самый грубый вариант огня, позволяющего переплавить стекло и создать новую вазу». Этот новый огонь, призванный воссоздать новую вазу разбившейся советской империи, «стучится в двери нашего, ранее общего дома. Дома, которому придется или вновь стать общим, или сгореть в пожаре, по отношению к которому ливийский ад еще покажется детской шалостью».
Перечень риторических приемов, с помощью которых достигается манипулятивный эффект, был бы неполным, если бы мы не обратили внимания на иную знаковую систему – фотографию. Для тех непонятливых и ленивых, кто не в силах освоить риторическую вязь автора, – картинка. Изображение человека, держащего в руках ракету, говорит само за себя, но уж для самых недогадливых дублируется подписью: «Насаждать демократию Запад предпочитает с помощью ракет и интервенций».
Предпринятый риторический анализ статьи С. Кургиняна, расположенной как раз в узкой зоне публицистического дискурса – между правдой и ложью, затронул в основном аспект коннотативной семантики. Мы полностью упустили аспект прагматический, и это далеко не случайное упущение. Кургинян, как искуснейший кудесник манипуляции, нигде в тексте не эксплуатирует прагматическое измерение семиозиса. Оно лежит за пределами текста, совсем в другом месте: в конкретном контексте внутренней политики с ее внутрипартийной борьбой. Приближаются выборы, и теперь, после ста- тьи «Четвертый вариант», избиратель точно знает, за какую партию магов и кудесников ему следует голосовать. За ту, чьи «действия осторожны. Это правильно, что они аккуратны. Это правильно, наконец, что те, кто двигается, не договаривает до конца». Действительно, правильно, потому что имперская ваза, только что выплавленная из тонкого стекла, может повторить судьбу другой вазы, вдребезги разбившейся 20 лет назад.
THE TOPIC OF POLITICAL AND SOCIAL DISCOURSE:
BETWEEN TRUTH AND LIE