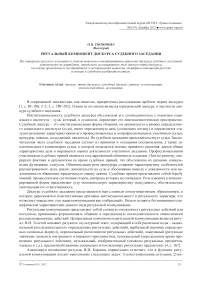Ритуальный компонент дискурса судебного заседания
Автор: Тютюнова Олеся Николаевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (19), 2012 года.
Бесплатный доступ
На материале русского и немецкого языков выявлены конститутивные признаки дискурса судебных заседаний, установлены их атрибуты, определено ассоциативное поле данного типа дискурса, на основе проведенного ассоциативного эксперимента выявлена специфика отношения русских и немцев к судебным разбирательствам.
Дискурс, типы дискурса, судебный дискурс, ритуал, коммуникация, лингвосемиотика, ассоциация
Короткий адрес: https://sciup.org/14821798
IDR: 14821798
Текст научной статьи Ритуальный компонент дискурса судебного заседания
В современной лингвистике, как известно, приоритетны исследования проблем теории дискурса [1, с. 85–106; 2–3; 5, с. 189–202]. Одним из его видов является юридический дискурс, в частности дискурс судебного заседания.
Институциональность судебного дискурса обусловлена его соотнесенностью с понятием социального института – суда, который, в сущности, определяет его лингвосемиотическое пространство. Судебный дискурс – это институциональная форма общения, он организуется в рамках определенного социального института (суда), имеет определенную цель (установить истину) и определяется статусно-ролевыми характеристиками его профессиональных и непрофессиональных участников (судья, прокурор, адвокат, подсудимый, свидетель). На судебном заседании председательствует судья. Заключительная часть судебного заседания состоит из принятия и оглашения постановления, а также заключительного комментария судьи, в котором излагаются мотивы принятого решения, дается общая характеристика дела и выражается оценка деятельности участников заседания. Профессиональными участниками судебных прений являются государственный обвинитель и адвокат. Они по-разному оперируют фактами и аргументами во время судебных прений, что обусловлено их разными социальными функциями, статусом. Обвинительная речь прокурора содержит характеристику особенностей рассматриваемого дела, анализ доказательств на суде и обоснование вывода о доказанности или недоказанности обвинения, юридическую оценку деяния. Судебные прения представляют собой борьбу мнений, процессуальное состязание сторон, интересы которых не совпадают. Речь адвоката в концентрированной форме представляет суду положительную характеристику подсудимого, обстоятельства, смягчающие его ответственность.
Дискурс судебного заседания представляется нам сложным коммуникативным образованием, в котором пересекаются конститутивные признаки институционального и ритуального характера, что позволяет определить этот жанр коммуникации как «гибридный». Нельзя оставить без внимания и специфические характеристики данного вида ритуальной коммуникации.
Ритуальная коммуникация представляет собой сложную совокупность ритуальных действий или поступков, призванных формализовать общение в определенную последовательность символически регламентированных действий. Центральным компонентом ритуальной коммуникации является ритуал. Н.И. Толстой называет ритуалом «культурный текст, содержащий в себе различные коды – акцио-нальный (последовательность определенных ритуальных действий), вербальный (наличие определенных словесных формул), персональный (исполнители ритуальных действий), локативный (ритуально значимые элементы внутреннего и внешнего пространства), темпоральный (определенное время проведения ритуального действия), музыкальный, изобразительный (символы ритуальных предметов, одежды и т.д.), предметный (наличие специально изготовленных ритуальных предметов)» [4, с. 167].
Анализируя назначение ритуала, В.И. Карасик справедливо отмечает, что в функции ритуальной коммуникации входит выполнение следующих задач: 1) констатирование ситуации; 2) ин- тегрирование участников события в единую группу; 3) мобилизация участников на выполнение ритуальных действий; 4) закрепление коммуникативного действия в заданной форме, имеющей ценностную значимость [2, с. 335]. Далее ученый делает следующее важное замечание: «Констатирующая, интегрирующая и мобилизирующая функции выделяют некое событие, но еще не делают его ритуально значимым. Фиксирующая функция превращает нечто в ритуал» (Там же). Соотношение понятий ритуальности и клишированности дискурса приводит исследователя к мысли о том, что ритуальный дискурс может быть клишированным и неклишированным. К жестко клишированным ритуальным текстам можно отнести тексты воинской присяги, клятвы перед судом говорить правду, тексты канонических молитв. Ритуальный дискурс допускает вариативность по линии индивидуальной интерпретации лежащего в его основе прецедента (Там же, с. 336–337).
Ритуализация в разной степени свойственна различным социолингвистическим типам дискурса. Она выражается в конститутивных признаках типов институционального дискурса (цель, участники, хронотоп, ценности, стратегии, жанры, прецедентные тексты, дискурсивные формулы) (Там же, с. 335). Например, процедура защиты диссертации является ярким примером мягко формализованного ритуального дискурса. К прототипному ритуалу можно отнести каноническую молитву, которую предписано произносить в определенные даты (Там же, с. 340–343).
Дискурс судебного заседания получает статус ритуального события, поскольку приобретает характер ритуала с присущими ему сценарностью, ролевой структурой и символичностью. Под сценар-ностью мы понимаем совокупность действий рекурсивного характера, совершаемых в определенном порядке, и композиционную законченность, подразумевающую начало процесса, его ход и завершение. Судебное заседание – это давно сложившийся ритуал с легко узнаваемым сценарием. Судебное разбирательство является основной стадией уголовного или гражданского судопроизводства, в процессе которого суд исследует обстоятельства дела, и состоит из нескольких стадий.
Мы проанализировали судебные заседания по уголовным делам. Графически ритуальный ход судебного заседания можно представить следующим образом: приветствие суда участниками заседания – вступительная речь судьи, открытие судебного заседания – начало судебного следствия, изложение содержания обвинения – обращение к подсудимому, допрос подсудимого – допрос потерпевшей стороны, свидетелей – закрытие судебного следствия – обвинительная речь прокурора – защитительная речь адвоката – последнее слово подсудимого – оглашение постановления, приговора – заключительная речь судьи – закрытие судебного заседания. Примечательно, что судебное заседание, хотя и строится по заданному сценарию, содержащему компоненты сугубо протокольного порядка, все же не исключает возникновение «незапрограммированных» компонентов (повторный допрос свидетеля, признание свидетеля в совершении преступления, отказ от дачи показаний, отказ от обвинения, примирение сторон и т.д.).
Необходимо упомянуть ролевую структуру дискурса судебного заседания, анализируя его институциональные характеристики. Отметим, что каждый участник судебного процесса «играет» свою роль в соответствии с занимаемым социальным статусом.
Для обеспечения знаковой поддержки и придания особой символичности пространству судебного заседания используются своеобразные ритуальные артефакты. К внешним атрибутам судебной власти можно отнести здание, в котором находится суд, его обустроенность, обстановку залов судебных заседаний, наличие государственной символики в залах судебных заседаний (герб, флаг государства). Судья во время судебных заседаний облачен в мантию, на столе у него лежит деревянный молоток и плашка, по которой им стучат. Отсутствие мантии в какой-то мере лишает судью того ореола власти, которую он должен олицетворять. Залы судебных заседаний оборудованы в России и ФРГ примерно одинаково: стол председательствующего на возвышении, герб и флаг за спиной у председательствующего, столы для сторон напротив друг друга, трибуна для свидетелей (иногда она отсутствует в связи с небольшим размером зала), стол для секретаря, несколько скамеек для публики. Подобная обстановка залов суда создает ощущение важности происходящего, того, что именно в зале судебных заседаний решаются судьбы многих людей. Все названные атрибуты должны подчеркивать существенную роль судебной власти в демократическом обществе. Фактически именно они «превращают» судей в олицетворение государства, от имени которого выносятся судебные решения, поэтому уважительное отношение к атрибутам судебной власти выражает уважительное отношение к судебной власти в целом.
Ритуальные и институциональные характеристики дискурса судебного заседания представлены в словах-реакциях большинства опрошенных нами представителей русской и немецкой лингвокультур, участвовавших в свободном ассоциативном эксперименте. Далее мы хотели бы вкратце представить превалирующие в сознании информантов представления о суде. В ходе эксперимента было установлено 200 слов-реакций немецких и русских участников на слово-стимул суд . Последующий анализ слов реакций позволил выявить наиболее частотные ассоциации.
По результатам ассоциативного эксперимента информантов в обыденном сознании русского человека суд ассоциируется, прежде всего, со сценарностью коммуникации в суде – прения, оглашение приговора, допрос (34 примера) и с ритуальными артефактами – мантия, молоток, герб (28 примеров). Вобрав в себя обрядовую символику, суд в русской лингвокультуре становится символом жизненных трудностей, возникающих проблем и сложностей, а также эмоциональных потрясений – 31 пример ( проблемы, бумаги, шум, возня, коррупция, нужны деньги ). Проведенный ассоциативный эксперимент выявил соотнесенность этого слова-стимула с состоянием человека, находящегося в трудной ситуации, растерянности, отчаянии – мама переживает, слезы, беспомощный, тебе не верят, долгое ожидание, поломана судьба, безразличие, обман. Особую группу (7 примеров) представляют ассоциации на русском языке, отсылающие к прецедентным именам и событиям, а также судебным разбирательствам, нашедшим широкий общественный резонанс – Магницкий, Ходорковский, чиновники Саакашвили, убийство Буданова, панк-молебен, самбист Мирзаев, банда Цапка . Здесь главным фактором выступает частота упоминания уголовных дел в средствах массовой информации. Однако подобные ассоциации, на наш взгляд, не несут информации о сознании опрашиваемого и не представляют интереса для исследования его представлений о мире.
Немецкие информанты также воспринимают судебное заседание как своеобразный ритуал. Приводились ассоциации суда с характерными для него атрибутами – мантия судьи, флаг, конституция (22 примера). Однако большая часть названных ассоциаций подтверждает связь суда с современной обыденной жизнью граждан Германии, менее нагруженной культурно и/или эмоционально. В немецкой ментальности суд воспринимается как институт, разрешающий сложившиеся проблемы: установление правды, право, решение, победа, разрешать , перемены, наказать, штраф (54 примера). К институциональным характеристикам судебного разбирательства относятся и ассоциации, называющие участников и реалии судебного заседания. Среди немецких слов-реакций были представлены ассоциации адвокат в костюме, справка, портфель, папка с документами, свидетельство о разводе (24 примера).
Таким образом, проведенный ассоциативный эксперимент подтверждает важность ритуального компонента при описании дискурса судебного заседания и выявляет существующее представление о судебном разбирательстве как о ритуальном событии у представителей русской лингвокультуры. Участие в данном ритуале является в российской языковой действительности трудным и тревожным событием, о чем свидетельствует обилие эмоционально нагруженных ассоциаций, обладающих отрицательной коннотацией. Суд как слово-стимул приобретает негативный подтекст. Процессуальный характер коммуникации в суде наделяется в сознании современного человека в России особой образностью и эмоциональной напряженностью, в то время как в немецком обществе превалируют ассоциации институционального характера.
Список литературы Ритуальный компонент дискурса судебного заседания
- Зубкова Я.В. Концептуальные ценности академического дискурса: на материале немецкого и русского языков//Немецкая концептосфера: национальные и индивидуально-авторские концепты: кол. моногр./науч. ред. В.И. Карасик. Волгоград: Парадигма, 2012. С. 85-106.
- Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002.
- Лутовинова О.В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса. Волгоград: Перемена, 2009.
- Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995.
- Черкасова И.С., Красавский Н.А. Самопрезентация личности в Интернете и печатных СМИ (на материале объявлений о знакомстве)//Интернет-коммуникация как новая речевая формация: кол. моногр./науч. ред. Т.Н. Колокольцева, О.В. Лутовинова. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. С. 189-202.