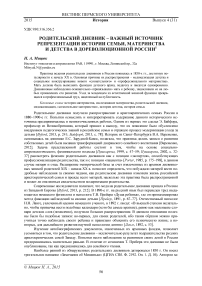Родительский дневник - важный источник репрезентации истории семьи, материнства и детства в дореволюционной России
Автор: Мицюк Н.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Источниковедение истории России
Статья в выпуске: 4 (31), 2015 года.
Бесплатный доступ
Практика ведения родительских дневников в России появилась в 1830-х гг., достигнув популярности к началу XX в. Основная причина их распространения - медикализация детства и социальное конструирование нового «сознательного» и «профессионального материнства». Мать должна была выполнять функции детского врача, педагога и писателя одновременно. Дневниковые наблюдения основательно «привязывали» мать к ребенку, зацикливали ее на любых проявлениях его развития. Уход за младенцем из естественной женской функции превращался в профессиональный труд, нацеленный на публичность.
История материнства, исследование материнства, родительский дневник, медикалицация, "сознательное материнство", история детства, история семьи
Короткий адрес: https://sciup.org/147203694
IDR: 147203694 | УДК: 930:316.356.2
Текст научной статьи Родительский дневник - важный источник репрезентации истории семьи, материнства и детства в дореволюционной России
Родительские дневники получили распространение в аристократических семьях России в 1880–1900-е гг. Попытки осмыслить и интерпретировать содержание данного исторического источника предпринимались в немногочисленных работах. Одним из первых это сделал Э. Байфорд, профессор из Великобритании, который пришел к выводу, что их появление было обусловлено внедрением педагогических знаний в российские семьи и отражало процесс модернизации ухода за детьми [ Byford , 2013, р. 241; Байфорд , 2013, с. 78]. Историк из Санкт-Петербурга В.А. Веременко, основываясь на дневнике Е.С. Зарудной-Кавос, полагала, что практика делать записи о развитии собственных детей была вызвана трансформацией дворянского семейного воспитания [Веременко, 2012]. Задача представленной работы состоит в том, чтобы на основе социальноантропологического, феминистского подхода [ Пушкарева , 1999, с. 47–59; Пушкарева , 2002, с. 3237] рассмотреть феномен родительских дневников как с позиции «экспертов», способствующих профессионализации родительства, так и с позиции «пациента» [ Porter , 1985, р. 175–198], в данном случае матери и отца. Расширение эмпирической базы за счет извлеченных из архивов дневниковых записей родителей XIX – начала XX в. позволит определить, что побуждало матерей вести подробные наблюдения за своими чадами, как родительские дневники изменили жизнь российской аристократической семьи и прежде всего матерей, насколько эта практика была распространенной и может ли она явиться свидетельством модернизации родительства.
Современные исследователи полагают, что мода на родительские дневники пришла в Россию из Западной Европы [ Byford , 2013, р. 212]. В 1890-е гг. на русский язык был переведен труд выдающегося немецкого физиолога и психолога Т.В. Прейера «Душа ребенка», где он пропагандировал метод фиксации наблюдений за своими детьми [ Прейер , 1891, р. 67–77]. Отечественный психолог Н.Н. Ланге, увлеченный идеями немецкого ученого, в 1892 г. писал: «В высшей степени желательно, чтобы привычка вести подобные календари (хотя бы самые краткие), равно как маленькие словари детских слов (помесячно), получили большее распространение. В двояком отношении полезны были бы подобные записи: во-первых, для самих родителей, ибо таким образом можно приучиться точно наблюдать своего ребенка и правильно объяснять его психическую жизнь; а во-вторых, для дальнейшего развития научной психологии дитяти» [ Ланге , 1892, с. 53].
Изучение автобиографических документов, извлеченных их архивных фондов, позволяет усомниться в том, что родительские дневники – исключительно результат подражательства русских аристократических семей Западу. Попытки вести наблюдения за развитием своих детей в России предпринимались значительно раньше. В отличие от сочинения Т. Прейера эти дневники не были опубликованы, так как предназначались для семейного чтения.
Наиболее ранний из обнаруженных родительских дневников датировался 1830 г. Он носил трогательное название «Замечания об Мишеньке» (ЦГИА СПб. Ф. 2192. Оп. 1. Д. 10). Автором за-
писей явился Виктор Андреевич Половцов (1803–1866), русский военный инженер, филолог и педагог. Тщательным образом он фиксировал нравственное, физиологическое и умственное развитие сына. Его исследовательская тетрадь была полна графиков, которые отражали анатомическое и физиологическое состояние ребенка. Особое внимание отец обращал на его здоровье, записывая любые проявления недомоганий сына.
Обнаруженный исторический источник свидетельствует о существенных изменениях в традиционном укладе дворянской семьи. Во-первых, он ставит под сомнение устоявшуюся в историографии точку зрения, согласно которой в дворянских семьях первой половины XIX в. отцы не принимали участия в уходе за малолетними детьми [ Белова , 2010, с. 418–429; Веременко , 2009, с. 494– 526; Engel , 1983, p. 62–86]. Во-вторых, представленный дневник дает основание говорить о появлении семей детоцентристского типа. В-третьих, этот источник позволяет оценить положение матери-аристократки в семье. Несмотря на то что В.А. Половцов тщательно фиксировал данные о развитии собственного сына, непосредственный уход за ним, сами наблюдения осуществляла мать, что было нечастым явлением в аристократической среде. Традиционно все заботы о малолетних детях брала на себя нанятая прислуга, мать дистанцировалась от новорожденного, занимаясь больше собственным туалетом и выездами. В представленном случае – относительно ранняя попытка создать новый тип жены и матери, полностью погруженной в процесс ухода за ребенком и его воспитания. Муж в данной ситуации выступал в роли «учителя», призванного координировать действия жены.
Сходен по содержанию родительский дневник другого поколения семьи Половцовых, составленный в 1880-х гг. Записи были сделаны сыном В.А. Половцова – Анатолием Викторовичем Половцовым – и его женой Екатериной Николаевной. На обложке дневниковой тетради помещена трогательная надпись: «Кирюша Половцов. Весу во мне 4515 гр, т.е. 11 фунтов и 16 гр, мама молодцом!» (РГИА. Ф. 1654. Оп. 1. Д. 13). Родители настолько внимательно подходили к физическому развитию малыша, что измеряли его вес даже ночью. Для того чтобы иметь представление о прибавке веса, отец распорядился проводить взвешивание после каждого кормления и даже после купания. Жена следовала всем указаниям мужа, тщательно внося записи о сыне в тетрадь. В итоге на страницах дневника представлены подробнейшие подсчеты прибавки и убавки веса, количества выпитого молока и пр. Отца интересовали мельчайшие подробности развития их сына, включая особенности стула. Первая улыбка, первое слово, перенесенные болезни, игрушки – обо всем этом писали родители. Супруги внедряли новейшие рекомендации педиатров: вовремя прививали оспу наилучшей вакциной; регулярно проверяли молоко кормилицы на степень жирности; закаливали малыша; придерживались графика введения прикорма (РГИА. Ф. 1654. Оп. 1. Д. 9).
По стилю изложения родительский дневник Половцовых производит впечатление научного (медицинского и педагогического) текста. Желание документировать каждый шаг ребенка демонстрировало ценность детства в восприятии родителей конца XIX в. В записях Половцовых нашло место описание противоречий, связанных с грудным вскармливанием. На протяжении второй половины XIX в. врачебное сообщество предписывало женщинам интеллигентных классов отказаться от услуг кормилиц и самостоятельно налаживать лактацию [ Дерикер , 1873, с. 169]. Записи Екатерины Николаевны Половцовой свидетельствуют о том, насколько трудно дворянкам давалась естественная для материнского организма процедура (ОР РНБ. Ф. 601. № 55. Л. 18). Несмотря на убежденность в исключительной пользе материнского молока и неспособность жены к подвигу кормления по старинке была взята кормилица.
Помимо того, что отец вел дневники своих малолетних детей, он приучил повзрослевших детей самостоятельно заполнять дневники. Его дочь Ксения настолько увлеклась ежедневными описаниями, что, будучи десятилетней девочкой, за год исписала тетрадь в более чем 800 листов (ОР РНБ. Ф. 601. № 1569). По мнению отца, если ребенок ежедневно записывает все то, что с ним происходит, это оказывает благотворное влияние на его развитие.
Таким образом, зачастую проводниками идеи о важности ведения родительских дневников были отцы семейств, заставлявшие своих жен-аристократок самостоятельно ухаживать за новорожденным без привлечения наемного персонала. Известным свидетельством этому явились также взаимоотношения Льва Николаевича Толстого и супруги Софьи Андреевны после рождения детей. Несмотря на сложности самостоятельно вскармливания, муж запрещал жене пользоваться услугами кормилиц, выступал против найма няни, всевозможными способами ограничивая жизнь Софьи Андреевны пространством детской [Толстая, 1932, с. 72; Сухотина-Толстая, 1980, с. 89]. Матери- аристократки охотно подчинялись предъявляемым мужьями требованиям, полагая, что тем самым они выполняют свое истинное предназначение и обеспечивают гендерную идентичность [Мицюк, 2014, с. 17–29].
На протяжении второй половины XIX в. многочисленные «эксперты» в лице врачей, педагогов, литераторов, психологов активно принялись создавать новый тип «сознательной», «профессиональной» матери. До середины XIX в. в России не было жестких стандартов, определяющих материнское поведение. «Воспроизводство» материнства [Чодоу, 2006] было обусловлено социальным, имущественным статусом родительниц и зависело от степени развития материнского инстинкта. Ситуация существенным образом изменилась к началу XX в. Под влиянием многочисленных предписаний экспертов в обществе стали формироваться различные концепции «идеального материнства» [ Мицюк , 2015а]. Представители экспертного сообщества настойчиво доказывали, что материнского инстинкта недостаточно для воспитания детей. Они стали предъявлять к матерям широкие требования, тем самым конструируя модели их поведения. Материнство превращалось из естественной роли женщины в важнейший ее социальный статус и общественный институт. Наблюдался процесс медикализации и коммерциализации материнства и детства (то, что М. Фуко относил к области «биополитики») [ Фуко , 1998]. В данном контексте под медикализацией материнства подразумевается превращение материнских практик в важнейший медицинский феномен, их возрастающая зависимость от медицинских указаний и экспертного (врачебного) дискурса. Именно врачи легитимировали границы «приемлемого /неприемлемого» материнского поведения, тем самым реализую биовласть в отношении не только материнских действий, но и социального поведения женщин. Одним из доказательств того, что от «новых матерей» требовали профессионального исполнения своих обязанностей, что их наделяли функцией квалифицированных «экспертов» в вопросах развития собственных детей, являлась популяризация практики ведения «родительских дневников». Речь в данном случае идет не о простых автобиографических записях, где бы женщины в свободной для себя манере фиксировали любые проявления развития собственного чада, а о профессионально составленных дневниках, соответствующих определенной экспертами структуре.
Многие дворянки считали своей прямой обязанностью следить за физиологическим развитием ребенка. Даже если они не вели отдельных дневников ребенка, в своих личных дневниках молодые матери часто делали соответствующие записи. «Я всегда детей мерила и записывала их рост...», – сообщала мать шестерых детей (ЦГИА СПб. Ф. 2313. Оп. 1. Д. 1. Л. 159). Главная цель измерений состояла в проверке того, достаточно ли дети потребляют молока, хватает ли им пищи для нормального развития. Теперь недостаточно было «родительского чутья» в отношении естественного или отклоняющегося от нормы развития малыша. Возникла настоятельная потребность взвешивать, измерять, вычислять. Подобные записи для женщин становились своеобразным свидетельством их принадлежности к плеяде «сознательных матерей». Ежедневные измерения нередко вызывали тревогу у женщин, усугубляя и без того их нервозное состояние. «Он ужасно огорчает меня своим весом и беспокойством… Не знаю, отчего он падает эти дни», – волновалась молодая мать (ОР РНБ. Ф. 601. № 645. Л. 27–28).
В популяризации ведения родительских дневников, профессионализации и медикализации материнства большую роль сыграли представители врачебного сообщества. Врач К.И. Поварин, работая в составе Всероссийского попечительства об охране материнства и младенчества, полагал, что «материнский дневник» поможет педиатрам наладить врачебный патронаж над грудными детьми [Журнал общего…, 1916, с. 36].
В начале XX в. стали появляться «профессиональные» родительские дневники, составленные не родителями-любителями, а врачами и педагогами. Они существовали в двух формах: в форме рекомендательного дневника, где авторы описывали, как следует вести наблюдения, и в форме образцового дневника-наблюдения за собственным ребенком. Известный российский врач, популяризатор правильного ухода за детьми В.Н. Жук в издании 1892 г. известной работы «Мать и дитя» поместил приложение под названием «Дневник матери» («Альбом матери»). Он полагал, что «материнские дневники» – средство, позволяющее объединить усилия профессионального сообщества и матерей в деле развития и воспитания детей. В его представлении идеальная картина ухода за ребенком должна была выглядеть следующим образом: мать старательно все записывает, врач интерпретирует записи, дает советы и рекомендации.
Образец материнского дневника, предложенный В.Н. Жуком, был достаточно сложным, имел характер научного документа, так как содержал различные параметры для наблюдений. Прежде чем характеризовать развитие малыша, необходимо было собрать сведения о здоровье родителей ребенка и о протекании предродового периода (в том числе данные о наличии наследственных заболеваний, об одежде, которую носила мать, будучи в положении, о длительности ношения корсета). По сути, В.Н. Жук предлагал матерям заняться собиранием анамнеза, причем не только своего, но и всех членов семьи. Все это было призвано составить наиболее полную картину о характере развития новорожденного. Врача интересовали особенности воспитания родителей, место их проживания, образование, возраст, начало менструального цикла у будущей матери и т.д. Что касается наблюдений за ребенком, то матери вменялось в обязанности фиксировать буквально все стороны его жизни: физическое развитие (делать замеры веса и роста каждую неделю), особенности вскармливания, количество выпитого молока (и даже ночью), стул, введение прикорма, особенности одежды, характер эмоциональных проявлений и многое другое [Жук, 1892, с. 4–20]. В образцовом альбоме В.Н. Жука предлагались варианты составления графиков физиологического развития ребенка. По многим параметрам образцовый дневник В.Н. Жука являлся прообразом современных медицинских карт беременных и детей первого года жизни.
Врач, педагог, редактор журнала «Семейное воспитание» А.А. Дернова-Ярмоленко полагала, что абсолютно все родители обязаны вести дневник наблюдений за собственными детьми [ Дерно-ва-Ярмоленко , 1911, с. 1]. Для нее материнство – профессиональный труд, в связи с чем она убеждала читательниц в том, что каждая из них должна начать работать в качестве матери «сознательно и продуктивно» [ Дернова-Ярмоленко , 1911, с. 5]. Врач выступала с инициативой обобщения данных и проведения научного исследования. Она обратилась к матерям с просьбой присылать ей копии заполненных дневников. А.А. Дернова-Ярмоленко выделила основные правила ведения родительского дневника. Она полагала, что записи должны быть точными, полными, изображающими дитя в естественных условиях. Родители с точностью «фотографического аппарата» были призваны фиксировать все проявления жизнедеятельности своего ребенка на бумаге. Женщина-врач настаивала на периодичности ведения дневника (делать записи не реже одного раза в неделю) и правдивости повествования. Главную ценность материнских записей А.А. Дернова-Ярмоленко, подобно классикам психоанализа, видела в возможности отыскать «корень многих поступков» уже взрослого человека [ Дернова-Ярмоленко , 1914, с. 46]. В отличие от «альбома» В.Н. Жука, составленного по тематическим разделам, А. Дернова-Ярмоленко предложила вести дневник по хронологическому принципу, начиная с первого дня жизни новорожденного.
Помимо рекомендаций детских врачей матерям заводить детские дневники в разных журналах стали появляться дневники, составленные педиатрами, где они фиксировали наблюдения за развитием собственных малышей. В 1910-е гг. были опубликованы профессиональные материнские и отцовские дневники [Кричевская, 1916; Соколов, 1918; Левоневский, 1914; Гаврилова, Ста-хорская, 1917; Ивъ, 1917; Е.Б., 1914]. Их появление было продиктовано развитием медицинских, психологических и педиатрических знаний. Эти дневники призваны были стать примером того, как нужно вести идеальные наблюдения за ребенком и их записи.
В одном из номеров журнала «Семейное воспитание» за 1914 г. был опубликован образцовый дневник, составленный женщиной-педагогом [Е.Б., 1914]. Предложенный дневник имел характер истории болезни с хорошо составленным анамнезом, близким по содержанию к представленному в современных медицинских (больничных) картах детей. Мать в строго научной форме документировала особенности развития дочери (Веры) от рождения до года. Она пользовалась оригинальной методикой ведения дневника: не по хронологическому принципу, а по проблемному. Среди выделенных тем – «желудочно-кишечные отправления», «кормление», «сон», «болезни», «развитие двигательной сферы», «развитие слуха», «развитие зрения», «игры и занятия». Каждый из разделов заполнялся матерью ежемесячно. В «Предварительных замечаниях» дневника были приведены развернутые сведения о здоровье и вредных привычках родителей и их родственников. Е.Б. обращала особое внимание матерей на необходимость фиксировать в дневнике любые проявления нездоровья малыша, приводя в пример собственный опыт наблюдений: «4 мес. – 4, 5, 6 января температура поднималась до 39», «5 мес. – 17–25 января легкий кашель и насморк, повышение температуры, до 39, покраснение глаз», «7 мес. – небольшой насморк», «8 мес. – сильный насморк», «9 мес. – жар под 39», «10 мес. – желудочно-кишечное расстройство, присоединился насморк, температура поднялась до 39», «12 мес. – желудочно-кишечное расстройство, жар, насморк…» [Е.Б.,
1914, с. 33 – 34].
Одним из первых отцовских дневников, опубликованных в периодической печати, стал дневник четырехлетних наблюдений А.Ф. Левоневского за своим сыном Дмитрием [ Левоневский , 1909]. От профессиональных дневников, где строго фиксировались антропометрические данные ребенка, этот дневник отличался эмоциональной окрашенностью. А. Левоневский нерегулярно измерял и взвешивал сына. Кроме того, он признавался, что его записи лишены строгой систематичности. В то же время отец описывал особенности содержания ребенка, его поведение, игры и собственные отцовские переживания.
Родительский дневник, по мнению врачей, должен был стать важным средством в оформлении педиатрического патронажа, который только начал зарождаться в начале XX в. в аристократических семьях [ Мицюк , 2015б, с. 100]. В условиях отсутствия регулярных контактов с педиатром, дороговизны услуг частнопрактикующих врачей матери зачастую поручалось составлять дневник, а в редкие приходы педиатра она отчитывалась перед ним. При такой форме патронажа доктор навещал новорожденного значительно реже, что экономило семейный бюджет. Он осматривал ребенка, давал рекомендации по уходу за ним, выписывал лекарства, основываясь на собственных наблюдениях и записях матери. Страницы некоторых женских дневников сохранили сведения о подобных наблюдениях (ОР РНБ. Ф. 601. Д. 55. Л. 1–14; ГАРФ. Ф. 618. Оп. 1. Д. 30, 32).
В дневниках графини С.Ф. Вонлярлярской подробно описывались антропометрия младенца, характер его кормлений, активность, сон ребенка в неонатальном периоде. Графиня вносила данные о пропорциях младенца на первом месяце жизни: «Вес 4150; рост 55–56; головка: I–36, II–35, III–34,5; плечиков – 39; груди – 36; тазика – 33». Под руководством педиатра она тщательно записывала особенности физиологического развития малыша, его поведения, а также объемы выпитого молока: «1,2,3-й день по рождению ничего ненормального в состоянии новорожденной не замечалось; 4 сутки – слабит часто, помалу, зеленою. Ночью сильно беспокоилась. Кормила графиня, кормилица 2 раза ночью; 5-е сутки – с вечера слабило 6 раз; 6-е сутки новорожденная сосала от кормилицы всего 1 раз. Беспокойна от 3 ночи до 9 утра. 7-е сутки – беспокойна ночью, 1ч – сосала кормилицу, 2ч 30мин – кричала, 3–4ч – заснула, 4ч – сосала у кормилиц, 6ч – кормила графиня. Спала до 9ч 20мин. Общее состояние удовлетворительное… Днем: кушала в 12.15 – 80гр., уснула в 2ч, 3.45 – съела 70гр, 5ч – 70гр, отрыгнула, 6.30 – 85, 8ч. – 70гр, 9ч – ванны, 10ч – сон. Всего за сутки 445 гр» (ГАРФ. Ф. 618. Оп. 1. Д. 32. Л. 1–3). Смоленская дворянка Т. Волконская также фиксировала полученные ею самостоятельно и доктором данные о развитии младенца. В одном из писем к мужу она сообщала: «В среду доктор взвешивал нашего молодца бибиса. Он теперь весит 6870 гр, т.е. прибавляет около 21 гр в день» (ГАСО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5. Л. 76).
Мать в своей повседневной заботе о малышах должна была выполнять функции детского врача, педагога и писателя одновременно. Более двух веков российские власти бились над вопросом производства «новой породы людей». Движимая просветительскими идеями Екатерина II считала, что этой цели послужат закрытые учебные заведения (воспитательные дома, институты благородных девиц), в которых дети изолировались от родителей и попадали в руки «экспертов» в деле воспитания. В пореформенной России суть модернизации воспитания заключалась не в том, чтобы изолировать детей от родителей (данная форма оказалась чрезмерно затратной для государства), а в том, чтобы превратить родителей (прежде всего мать) в профессионалов, «экспертов» воспитательного процесса. Именно в этот период появилось много научно-популярной литературы об уходе за детьми, их воспитании, призванной изменить отношение матерей к своим обязанностям. Провинциальная дворянка А.А. Знаменская, имея двух дочерей, рассуждала на страницах собственного дневника: «Нынче у меня часто является сознание своей плохой научной подготовки и необходимости во всестороннем образовании. Это образование нужно мне как матери» (РГАЛИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 383. Л. 23). «Новые матери» все чаще романам предпочитали научную литературу, дающую объяснение насущных вопросов, касаюшихся воспитания детей, характера отношений с ними, особенностей развития их психики. «Дневник ребенка» назывался врачами и педагогами «лучшей книгой», которую когда бы то ни было могла написать женщина [ Розеггер , 1914, с. 43]. «Материнский дневник» должен был стать важным средством создания тандема в лице озабоченной развитием своего чада матери и частнопрактикующего врача.
Таким образом, родительские дневники и записи приобрели широкое распространение в начале XX в. С одной стороны, это сугубо интимные записи, относящиеся к разряду эгодокументов и эмотивов, позволяющих современным исследователям изучать переживания матерей и отцов прошлого [Reddy, 1997, р. 17–20; Bailey, 2012, р. 35–37]. С другой стороны, их создание и распространение продолжили профессионалы (врачи, психологи, педагоги), что дает основание анализировать процесс конструирования экспертным сообществом нового, «сознательного» родительства и семей детоцентристского типа. Дневники наблюдений над детьми были призваны восполнить отсутствие регулярного педиатрического патронажа. Помимо педиатрической и педагогической они несли другую, не менее важную, миссию. Дневниковые наблюдения основательно «привязывали» мать к ребенку, сосредоточивали ее на любых проявлениях его развития. Из естественной женской функции они превращали уход за младенцем в профессиональный труд, нацеленный на публичность.
Список литературы Родительский дневник - важный источник репрезентации истории семьи, материнства и детства в дореволюционной России
- Байфорд Э. Родитель, учитель и врач: к истории их взаимоотношений в деле воспитания и образования в дореволюционной России//Нов. рос. гуманит. исследования. 2013. № 8
- Белова А.В. «Четыре возраста женщины»: Повседневная жизнь русской провинциальной дворянки XVIII -середины XIX в. СПб., 2010
- Веременко В А. Дворянская семья и государственная политика России (вторая половина XIX -начало XX в.). СПб., 2009
- Веременко В А. Родительский дневник как элемент новой системы дворянского семейного воспитания в России во второй половине XIX -начале XX в. (на примере дневника Е.С. Зарудной-Кавос)//Воспитание: возможности, реалии, перспективы: матер, науч.-практ. конф. Бокситогорек, 2012
- Гаврилова Н.И., Стахорская М.Л. Дневник матери: Записки о душевном развитии ребенка от рождения до 7-летнего возраста. М, 1916
- Дерикер В.В. Физиологическая история женщины. СПб., 1873
- Дернова-Ярмоленко А. Как писать дневники. Практические заметки//Семейное воспитание. 1914. № 1
- Дернова-Ярмоленко А.А. Дневник матери. Книжка для систематических наблюдений и записей над телесным и душевным развитием ребенка. М, 1911
- Е.Б. Из дневника матери//Семейное воспитание. 1914. № 1
- Жук В.Н. Дитя. Дневник матери. Альбом для записи наблюдений над физическим развитием ребенка. Первые три года жизни. СПб., 1892
- Журнал общего собрания Всероссийского Попечительства по охране материнства и младенчества, 6 марта 1916 г.//Охрана материнства и младенчества. 1916. № 1
- Ивъ В. Из дневника отца//Психология и дети. 1917. № 6-8
- Кричевская Е. Моя Маруся: Записки матери. Пг., 1916
- Ланге Н.И. Душа ребенка в первые годы жизни. СПб., 1892
- Леваневский А.Ф. Материалы о психическом развитии ребенка в течении первого года его жизни//Рус. школа. 1909. № 3
- Леваневский А.Ф. Мой ребенок. Наблюдения над психическим развитием мальчика в течение первых четырех лет его жизни. СПб., 1914
- Мицюк Н. Конструируя «идеальную мать»: концепции материнства в российском обществе начала XX в.//Журн. исследований социальной политики. 2015а. № 1
- Мицюк Н.А. Тандем «сознательной матери» и врача: зарождение педиатрического патронажа над грудными детьми в России на рубеже XIX-XX вв.//Женщины в российском обществе. 20156. № 3
- Мицюк Н.А. Типы российских дворянок начала XX в. по отношению к собственной фертильности и материнству//Женщины в российском обществе. 2014. № 2
- Прейер В. Душа ребенка. СПб., 1891
- Пушкарева Н.Л. Историческая феминология, женская и тендерная история: итоги и перспективы//Женщина в российском обществе. 2002. № 2-3
- Пушкарева Н.Л. Материнство в новейших философских и социологических концепциях//Этногр. обозрение. 1999. № 5
- Розеггер П. Мать, пиши свою лучшую книгу//Семейное воспитание. 1914. № 8-9
- Соколов Н. Жизнь ребенка (по дневнику отца). М., 1918
- Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. М., 1980
- Толстая С.А. Записки прошлого. Воспоминания и письма. М., 1932
- Фуко М. Рождение клиники. М., 1998
- Чодороу Н. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология тендера. М., 2006
- Bailey J. Parenting in England 1760-1830: Emotion, Identity, and Generation. Oxford, 2012
- Byford A. Parent Diaries and the Child Study Movement in Late Imperial and Early Soviet Russia//The Russian review. 2013. Vol. 72, № 2
- Engel B.A. Mothers and daughters. Women of the intelligentsia in nineteenth-century Russia. Cambridge, 1983
- Porter R. The Patient's View: Doing Medical History from Below//Theory and Society. 1985. Vol. 14
- Reddy W.M. Against Constructionism. The Historical Ethnography of Emotions//Current Anthropology. 1997. Vol. 38, №3