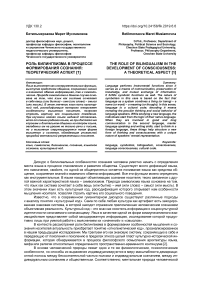Роль билингвизма в процессе формирования сознания: теоретический аспект
Автор: Бетильмерзаева Марет Мусламовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 6, 2019 года.
Бесплатный доступ
Язык выполняет как инструментальные функции, выступая средством общения, сохранения знаний и взаимного обмена информацией, так и символические. Природа символизма в данном случае основана на том, что язык как система сочетает в себе вещь (или бытие) - имя (или слово) - смысл (или мысль). В этом значении язык есть культурный код, раскодификация которого открывает особенности мышления носителя, позволяя строить картину его социального поведения. При изучении нового языка индивид отталкивается от логики родного языка, но при достаточно хорошем и длительном общении на втором языке, овладении им на уровне не только речи и письма, но и мышления структурируется новая форма мышления и сознания, обладающая уникальной природой ментальной репрезентации носителя.
Язык, символизм, билингвизм, сознание, языковое сознание, культурный код
Короткий адрес: https://sciup.org/149133996
IDR: 149133996 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2019.6.6
Текст научной статьи Роль билингвизма в процессе формирования сознания: теоретический аспект
Дискурс о билингвальных особенностях сознания человека уместно начать с определения места языка в процессе становления и развития общества. Существует много дефиниций языка, его назначения, свойств, но одной из общепринятых остается понимание языка как средства общения, сохранения знаний и взаимного обмена информацией. Все эти функции можно определить как инструментальные. В языке находит объективацию сознание носителя, тесно связанное с другой важной характеристикой языка – символизмом. Природа символизма языка основана на том, что язык как система сочетает в себе вещь (или бытие) – имя (или слово) – смысл (или мысль). В этом значении язык есть культурный код, раскодификация которого открывает нам особенности мышления носителя, позволяя строить картину его социального поведения.
Известно, что в современном гуманитарном дискурсе существуют различные подходы к анализу понятия «культурный код». Сама по себе любая культура как артефакт есть закодированная знаковая система, в которой находит отражение преломленная человеческим сознанием объективная реальность. Культурный код – это знак как носитель информации о социокультурной идентичности означаемого означающему. Язык в качестве одной из форм коммуникативного взаимодействия представляет собой закодированную информацию, исследование которой продуктивно лишь при умелой работе с выяснением их «значений» и «смыслов».
В контексте рассмотрения роли билингвизма в формировании особенностей мышления и сознания носителей актуальность приобретает понятие «этногенетический код», проанализированное в нашем предыдущем исследовании. Мы трактуем его как знаковую систему, сохраняющую в себе и передающую от поколения к поколению в пределах этноса целый пласт культурно-исторической информации, которая обнаруживается в процессе философского осмысления архитектуры языка, мифа или религии относительно определенного пространственно-временного континуума [2].
В основе человеческой природы лежат одни и те же физиологические, психологические особенности, но способы их выражения индивидуализируются в меру масштабности демаркационной полосы между бессознательной частью психики и индивидуальным сознанием, между индивидуальным сознанием и общественным. Соответственно, ментальная природа человеческой психики детерминирована как психофизиологическими факторами, так и социальными. Данная совокупность факторов питает «сумеречную зону» психики, в результате их случайного взаимодействия мы вырабатываем тот или иной уровень сознания, духовности, обнаруживаемый в деятельной природе человека, его поведении и речи.
Сознание также имеет много определений, но согласно классической трактовке данное понятие дефинируемо как «способность идеального отражения действительности, превращения объективного содержания предмета в субъективное содержание душевной жизни человека» [3, с. 78], «высшая, свойственная только человеку и связанная с речью функция мозга» [4, с. 83]. Однако эта категория имеет инструментальный характер и в логике нашей оценки языка как феномена, непосредственно объективирующего сознание, последнее можно трактовать не как субстанцию, а как продукт корреляции субъективной и объективной картин мира.
Сознание как способность человека есть нечто субъективное, идеальное, не имеющее самостоятельного бытия вне отношения к материальному субстрату - мозгу и объекту отражения. Помимо сознания, психика индивида представлена сферой бессознательного и ментальности. Сущность сферы ментального формируется благодаря отражаемой информации, с одной стороны, провоцируя то или иное содержание сознания, с другой - обусловливая его.
Применяя ментально-когнитивный подход к осмыслению сознания, мы пытаемся увидеть ментальные и когнитивные особенности возникновения сознания как психически-социального феномена. Психика как специфический аспект взаимодействия животных и человека с окружающей средой представляет собой «системное свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в активном отражении субъектом объективного мира и саморегуляции на этой основе поведения и деятельности» [5]. На уровне ментального преобразования информации и стечения равнозначных факторов - мозга и социальной среды - возникает сознание, обусловливающее когнитивные особенности субъекта.
Процесс воспитания и образования (в целом социализации) субъекта протекает в усвоении социальных, культурных, экономических, правовых, этических требований, свойственных данному сообществу. Согласно ментально-когнитивному подходу содержание сознания индивида детерминировано обозначенным социокультурным контекстом, но представленные нормы, обусловленные этническими, религиозными, возрастными особенностями формирования, находят отражение в языковых культуре и сознании.
В языке мы наблюдаем стечение вещи (или бытия) - имени (или слова) - смысла (или мысли). Наше исследование в этой части касается размышлений по данным вопросам А.Ф. Лосева и Л.С. Выготского. Первый в труде «Вещь и имя» отмечает, что в его понимании «имя вещи есть сама вещь» [6, с. 38]. Что же представляет собой вещь как вещь? Совсем не то, что лишь воспринимается нами. По А.Ф. Лосеву, вещь определяется как нечто, что существует независимо от того, «воспринимает ли ее кто-нибудь или не воспринимает» [7, с. 42], поэтому «то, что вещь находится вне мыслящего, вне ощущающего и вне восприятия» не говорит ничего о ее принципиальной немыслимости, неощущаемости и невоспринимаемости. Наоборот, внемысленность есть условие мыслимости [8, с. 43]. Вещи существуют независимо от того, воспринимаем мы их или нет; имя вещи, по мнению философа, есть орудие общения с нею. Поэтому вещь, обладая вне зависимости от нашего восприятия бытием, собственно таковым и является. Обнаружение вещи выступает следствием того, что вещь «узнана».
По Л.С. Выготскому, «отношение мысли к слову есть прежде всего не вещь, а процесс, это отношение есть движение от мысли к слову и обратно - от слова к мысли» [9, с. 285]. Смысл, или мысль, рождается в процессе обращения к слову или имени, т. е. интенция познающего субъекта, направленная на вещь, путем узнавания фундирует ее бытие.
С одной стороны, языковое сознание формируется в процессе постоянного узнавания внешнего мира, с другой - узнавание обусловлено уровнем развития языка и его исторической приспособленности к отражению социальных условий. В билингвальной культуре наблюдается расширение границ смыслов, которые, дополняя друг друга, рождают новую форму функционирования языков.
В Чеченской Республике отмечается мозаичная ситуация владения двумя языками. Большая часть населения активно использует оба языка, т. е. относится к билингвам, которые активно разговаривают как на родном языке, так и на чужом. Такую форму владения языком называют смешанной. Условно жителей можно дифференцировать на тех, кто изъясняется на обоих языках с одинаковым успехом; тех, кто хорошо говорит на чеченском языке и в меру необходимости может высказаться на русском; тех, кто хорошо говорит на чеченском и слабо - на русском и еще хуже воспринимает речь; и тех, кто общаются только на чеченском языке, но понимают русскую речь.
Вместе с тем существуют различные сферы деятельности людей, которые требуют обращения только к одному из языков. В билингвальной культуре в зависимости от области функционирования отдается предпочтение тому или иному языку. Например, на родном языке принято говорить в процессе проведения свадебных или похоронных мероприятий, что свидетельствует о некоторой сохранности традиционной культуры в рамках значимых актов повседневной жизни. В остальных случаях наблюдается открытое существование двуязычия. В билингвальной среде практика применения второго языка сопряжена с возрастом освоения, языковой компетентностью и культурной идентичностью носителя [10, p. 36].
В бытовой чеченской речи обращает на себя внимание частое чередование чеченских и русских слов, например в употреблении обнаруживается почти полная замена составных числительных чеченского языка на русские числительные, активно используются русские вводные слова, союзы, глаголы и т. д. Одной из причин этого является стремление к упрощению речи. Наблюдается и обратное влияние – чеченского языка на качество русского, когда в дискурсе на русском языке в соответствии с родным языком перестраивается грамматическая структура, происходят смысловые замены.
Таким образом, в соответствии с владением с двумя языками приобретает характерные особенности сознание носителей двуязычия. В свое время Э. Сепир и Б.Л. Уорф, авторы концепции лингвистического детерминизма, обратили внимание, что содержание языка обусловлено восприятием социальной действительности [11, с. 233]. С точки зрения представителей данного подхода, нет двух равно одинаковых языков, которые в одинаковой степени отражали бы социальную реальность. Каждый язык представляет своеобразную картину мира и не менее уникального субъекта – носителя этого языка.
При изучении нового языка индивид отталкивается от логики родного языка, но при достаточно хорошем и длительном общении на втором языке, при овладении им на уровне не только речи и письма, но и мышления структурируется качественно новая форма мышления и сознания, которая имеет уникальную природу ментальной репрезентации носителя.
Ссылки и примечания:
Список литературы Роль билингвизма в процессе формирования сознания: теоретический аспект
- Бетильмерзаева М.М. К вопросу о языке как этногенетическом коде на примере концепта «ненан мотт» // Этногенез и этническая история народов Кавказа: сборник материалов I Международного нахского научного конгресса / под ред. Ш.А. Гапурова, С.С. Магамадова. Грозный, 2018. С. 291-297
- Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972. 303 с
- Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972. С. 83.
- Словарь практического психолога / сост. С.Ю. Головин. Минск, 1998. 800 с
- Лосев А.Ф. Вещь и имя. Самое само. СПб., 2008. 573 с
- Лосев А.Ф. Вещь и имя. Самое само. СПб., 2008. С. 42.
- Лосев А.Ф. Вещь и имя. Самое само. СПб., 2008. С. 43.
- Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1999. 352 с
- Ramírez-Esparza N., García-Sierra A. The Bilingual Brain: Language, Culture and Identity // The Oxford Handbook of Multicultural Identity: Basic and Applied Perspectives / ed. by V. Benet-Martínez, Y.-Y. Hong. Oxford, 2014. P. 35-56. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199796694.013.012
- Сепир Э. Положение лингвистики как науки // История языкознания XIX-XX вв. в очерках и извлечениях / под ред. В.А. Звегинцева. В 2 ч. Ч. 2. М., 1965. С. 233