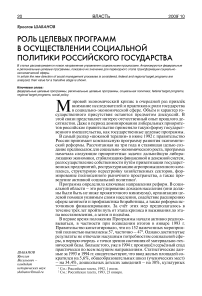Роль целевых программ в осуществлении социальной политики российского государства
Автор: Шабанов Ярослав Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 10, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается новое направление управления социальными процессами. Анализируются федеральные и региональные целевые программы, показано их значение для переходного этапа трансформации социально-экономической сферы.
Федеральные целевые программы, региональные целевые программы, социальная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/170164615
IDR: 170164615
Текст научной статьи Роль целевых программ в осуществлении социальной политики российского государства
М ировой экономический кризис в очередной раз привлёк внимание исследователей и практиков к роли государства в социально-экономической сфере. Объём и характер государственного присутствия остаются предметом дискуссий. В этой связи представляет интерес отечественный опыт прошлого десятилетия. Даже в период доминирования либеральных приоритетов российское правительство применяло такую форму государственного вмешательства, как государственные целевые программы.
В самый разгар «шоковой терапии» в июне 1992 г. правительство России принимает комплексную программу развития экономической реформы. Рассчитанная на три года и ставившая целью создание предпосылок для социально-экономического роста, программа намечала следующие приоритетные задачи: дальнейшую либерализацию экономики, стабилизацию финансовой и денежной систем, разгосударствление собственности путём приватизации государственных предприятий, реструктуризацию агропромышленного комплекса, структурную перестройку хозяйственных секторов, формирование полноценного рыночного пространства, а также проведение активной социальной политики1.
Программа определила ключевые направления реформ. В социальной области – это регулирование доходов населения (они должны были быть не ниже прожиточного минимума), организация целевой помощи уязвимым слоям населения, содействие расширению сферы занятости и профилактика безработицы, а также реформа источников финансирования. За счёт этих мер предполагалось в течение трёх лет пройти путь от этапа кризиса и выживания до этапа восстановления, а затем и подъёма.
В первое время положения Программы начали активно реализовываться, в частности при подведении итогов в январе 1993 г. Правительство констатировало, что из 152 намеченных мероприятий полностью выполнены 57, частично – 472. Однако достигнутые результаты не отвечали насущным потребностям социальной сферы, в первую очередь с точки зрения состояния её материально-технической базы. Больше того, уже в 1994 г. произошёл серьёзный спад практически по всем ведущим направлениям. Статистические данные за 1993 и 1994 гг. свидетельствуют, что ввод жилых площадей сократился на 5,6%, общеобразовательных школ (ученических мест) – на 34,4% , дошкольных детских заведений – на 30%, культурных
-
1 См.: Российская газета, 1992, 1 июля.
-
2 См.: Российская газета, 1993, 23 января.
учреждений клубного типа (посадочных мест) – на 24,5%. Заметно ухудшилась материальная база здравоохранения: количество больничных коек снизилось на 14,3%. Обострилась проблема занятости экономически активного населения: число безработных выросло почти вдвое1.
Сложившееся положение стало следствием нескольких причин. С одной стороны, переход от административно-плановой модели экономики к рыночной не мог быть быстрым и эффективным. Сказывалось отсутствие рыночных инструментов и механизмов, несовершенство законодательства, отсутствие управленческого опыта. С другой стороны, на экономику, а следовательно, и на социальную сферу, существенно влиял политический фактор. В борьбе за голоса избирателей руководство России провозгласило социальное развитие в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности. Однако для того чтобы получить кредит доверия общества, реформаторы зачастую декларировали меры, не подкреплённые реальными экономическими расчётами. Так, давались обещания о скорой «развязке» традиционно сложных социальных проблем (жилищной, оказания дорогостоящей медицинской помощи, предоставления мест в школах и детских садах и пр.). Между тем, воплотить их в жизнь в тот период было крайне трудно. Тем более что проводившейся политикой (например, в жилищной сфере, где начался переход от прямого административного распределения квартир «очередникам» к предоставлению жилищных кредитов) основополагающие условия, благодаря которым они решались ранее, кардинально менялись.
Повысить эффективность социальной политики, придать позитивным тенденциям в этой сфере новую динамику можно было только при наличии научно обоснованной и экономически выверенной стратегии с чётко определённым алгоритмом практических действий на текущую и долгосрочную перспективу. Однако социальная политика начала 90-х гг. не отвечала этим требованиям. Поэтому она вела к размыванию социальной базы реформ, прогрессирующему росту деформаций. Среди её очевидных недостатков – избранная тактика минимального присут- ствия государства в социальной сфере. По своей сути она не соответствовала объективным условиям того времени. Социальная сфера ни до реформ, ни на начальном этапе их продвижения не обладала механизмами самодостаточности и саморазвития. Подобная тактика противоречила не только прошлому опыту российского государства, но и мировому опыту.
Почти во всех развитых странах основные проблемы социальной сферы решаются при участии и финансовой поддержке государства. Для этого используются различные схемы и модели. В российском случае была избрана другая модель, основанная на том, что всемогущий рынок всё поставит на свои места. Между тем, опыт рыночных отношений показывает, что сам по себе рынок не является гарантом справедливого распределения национального дохода, он не в состоянии скоординировать общественные процессы, а модернизации придать социальную ориентированность. Без помощи государства образование, здравоохранение, культура или едва «держатся на плаву», или просто обречены на развал, и начальный период переходного этапа убедительно это показывает.
Нельзя не отметить, что многие действия правительства недостаточно соотносились с реальными возможностями центра и регионов. Зачастую отсутствовал системный подход к анализу перспектив их осуществления, не хватало ни материальных, ни финансовых ресурсов. Какой бы компонент социальной сферы мы ни взяли, у него одни и те же недостатки – существенное отступление от запланированных объёмов, замедление темпов строительства и т.п. В результате широко применялась практика частичных корректировок заданий в области социальной сферы, а иногда реализация того или иного мероприятия даже приостанавливалась. Всё это убеждало, что нужны новые подходы к управлению социальными процессами, основанные на качественно иной методологии, иных принципах. В мае 1994 г. правительство утвердило Основные направления социальной политики Правительства Российской Федерации. И хотя они были рассчитаны лишь на текущий год, анализ документа выявляет целый ряд положений принципиального характера. Во-первых, был сделан акцент на определяющем значении социальных факторов в ре- шении задач модернизации страны. Во-вторых, подчеркивалась ключевая роль государства в утверждении сильной социальной политики на переходном этапе. В-третьих, социальная политика стала более адресной, обращённой к конкретным группам населения. В-четвертых, уровень жизни населения стал рассматриваться как интегральный критерий эффективности социальной политики, главная цель всех предпринимающихся государством усилий.
В специальные разделы были выделены вопросы социальной политики, проводимой в районах Севера и на селе. В северных регионах предстояло принимать во внимание их слабую заселённость, оторванность от основных транспортных магистралей и культурных центров, особенности проживания малочисленных народов, недостаток производства и в связи с этим – недостаточную занятость трудоспособных людей. В сельской местности – последствия реструктуризации крупных сельскохозяйственных предприятий, появление крестьянских (фермерских) хозяйств, высокую миграцию населения, традиционное отставание села в социальном развитии. С учётом этого ставились и задачи: в северных регионах – строительство жилья, для детей в рамках программы «Дети Севера» – создание условий для физического и духовного развития, обеспечение завоза продовольствия и товаров повседневного спроса, предоставление гарантий по социальной защите северян, введение государственных компенсаций согласно районным коэффициентам. В сельской местности следовало обеспечить население гарантиями социальной защищённости при смене форм собственности, передать объекты социальной инфраструктуры местным органам самоуправления. Ставилась задача оказания помощи в организации работы школ, больниц, учреждений культуры, других социальных объектов. Предстояло построить дороги, предприятия связи, объекты электрификации и газификации, а также содействовать постепенному сокращению разницы доходов работников сельского хозяйства по сравнению с доходами работников отраслей промышленности.
Следует отметить, что именно с середины 1990-х гг. целевое программирование прочно вошло в государственную практику. С принятием в 1995 г. закона «О госу- дарственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» вместе с методическими рекомендациями практически оформилась законодательная база данного процесса. А с начала 1996 г. Госкомстат начал вести учёт реализации федеральных целевых программ. В этой связи интересны такие факты: в 1994 г. осуществлялось 45 целевых программ, на которые ушло 78% общих федеральных централизованных инвестиций; в 1995 г. – 49 (соответственно 54% вложений), в 1996 г. – также 49 программ (47,7% общих инве-стиций)1.
К составлению таких документов подключались не только соответствующие профильные ведомства, но и специалисты, целые научно-исследовательские коллективы, учёные высших учебных заведений. Как правило, каждая программа имела паспорт, где были указаны параметры, основания для её разработки, исполнители и соисполнители, важнейшие целевые показатели, ожидаемые результаты, сроки реализации, объёмы и источники финансирования, контрольный механизм. Федеральные целевые программы проходили основательную правовую и экономическую экспертизу и всё больше превращались в серьёзный инструмент социальноэкономической политики. Со временем они стали охватывать ключевые сферы деятельности государства, направленные на поддержку стратегически значимых для страны приоритетных направлений. В целом такие программы можно определить как совокупность взаимосвязанных по срокам, исполнителям, ресурсам мероприятий производственного, научного, технико-технологического, социального, организационного характера, направленных на достижение единой цели, на решение масштабных общегосударственных проблем. При этом разработчики стремились придать целевым программам конкретно-практическое содержание, сочетая текущие и отдалённые потребности страны и регионов, отдельно взятой местности, предприятия с реальными возможностями.
В условиях переходного времени, комплексной модернизации страны значение целевых программ обусловлено рядом причин: во-первых, при ограниченности ресурсов их можно использовать максимально эффективно; во-вторых, из всех приоритетов выдвигают на передний план общенациональные, способные объединить для решения всё общество; в-третьих, они дают возможность обозначить ближние и отдалённые перспективы. Наконец, целевые программы содействуют оптимизации бюджетного процесса. Достаточно сказать, что в США в рамках целевых программ осуществляется почти 50% государственных расходов, во Франции – до 80%.
Назовём лишь некоторые федеральные целевые программы, определившие важнейшие векторы стратегии социального развития на 1990-е гг.: «Основные направления нового этапа реализации Государственной целевой программы “Жилище”» (март 1996 г.), «Содействие занятости населения Российской Федерации на 1996 – 1997 годы» (май 1996 г.), «Развитие социального обслуживания семьи и детей на 1997 – 1998 годы» (июль 1996 г.), «Молодёжь России» (июнь 1997 г.), «Старшее поколение» (август 1997 г.), «Улучшение условий и охраны труда» (ноябрь 1997 г.) и др.
Федеральные целевые программы посвящались и отдельно взятым административным субъектам России: «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Адыгея в 1995 – 2000 годах» (январь 1995 г.), «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2000 года» (октябрь 1996 г.), «Комплексное развитие приграничного поселка Забайкальск Читинской области» (январь 1998 г.) и др. Достаточно сказать, что к началу 2000-х гг. целевыми программами были охвачены территории свыше 50 субъектов Российской Федерации.
По мере экономических возможностей государство старалось обеспечить программы бюджетными средствами. За один 1996 г. объём вложений из федерального бюджета по 22 целевым программам составил 2 475 350,6 млн руб.1 Из них 17 300 млн руб. было выделено на строительство новой системы водоподачи для города Ставрополя, 10 000 млн – на строительство Самарского онкологического центра, 850 000 млн руб. ушло на компенсацию тарифов на электроэнергию регионам Дальнего Востока. Однако, по признанию экономистов, этого было недостаточно. Больше того, высказывались опасения, что в 1997 г. на осуществление целевых программ федерального значения реально будет выделеналишь треть денежных с редств от необходимого объёма.
По примеру центра на местах также приступили к разработке комплексных целевых программ в социальной области. В структурном построении, по целям и задачам, принципам материального обеспечения они мало чем отличались от федеральных. Вместе с тем присутствующий в них региональный компонент придавал им свою специфику. Например, в Поволжском регионе уже в середине 1990-х гг. были принят целый ряд целевых программ: Астраханская область – «Строительство и финансирование жилья на территории Астраханской области», «О газификации Астраханской области», «Развитие культуры и искусства», «О библиотечном деле в Астраханской области», «Об образовании», «Здравоохранение»; Самарская область – «Концепция и программа развития здравоохранения до 2000 года», «Сельский дом», «Дети Самарской области»; Саратовская область – «Программа по социальной поддержке малообеспеченных групп населения Саратовской области», «Программа мероприятий по реализации социально-экономической политики», «Планирование семьи», «Молодое поколение»; Ульяновская область – «Программа развития народонаселения Ульяновской области», «О социальном партнёрстве», «Забота», «О библиотечном деле в Ульяновской области», «Семья и дети». Каждая из программ – это своего рода система ориентиров в развитии какого-либо направления социальной отрасли или сферы. По временному интервалу целевые программы чётко подразделяются на три типа – долгосрочные (рассчитанные на пять и более лет), среднесрочные (на три года) и краткосрочные (на год). При этом в долгосрочных программах оговаривается возможность корректировки в соответствии с раскладом текущих событий.
Опыт применения целевых программ в социально-экономическом развитии государства в девяностые годы только начинал складываться. Но уже первые результаты показали перспективность такого подхода, обеспечивающего взаимосвязь между распределением ресурсов и результатами их использования. Целевое программирование позволило конкретизировать усилия государства в системном решении среднесрочных и долгосрочных социальных задач. В следующем десятилетии данный опыт использовался при подготовке и реализации национальных проектов.