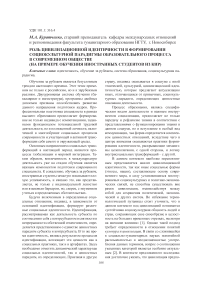Роль цивилизационной идентичности в формировании социокультурной парадигмы образовательного процесса в современном обществе (на примере обучения иностранных студентов из КНР)
Автор: Куратченко М.А.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Проблемы высшего образования
Статья в выпуске: 1 (33), 2014 года.
Бесплатный доступ
Сегодня обучение за рубежом является социальной нормой, а количество иностранных студентов служит одним из критериев эффективности российских вузов. Данная статья посвящена исследованию роли цивилизационной идентичности в формировании социокультурной парадигмы образовательного процесса, оказывающей влияние на адаптацию иностранных студентов в рамках учебной деятельности.
Идентичность, обучение за рубежом, система образования, социокультурная парадигма
Короткий адрес: https://sciup.org/142178981
IDR: 142178981
Текст научной статьи Роль цивилизационной идентичности в формировании социокультурной парадигмы образовательного процесса в современном обществе (на примере обучения иностранных студентов из КНР)
Обучение за рубежом является безусловным трендом настоящего времени. Этот тезис применим не только к российским, но и к зарубежным реалиям. Двухуровневая система обучения (бакалавриат и магистратура), программы двойных дипломов призваны способствовать развитию данного направления подготовки кадров. Профессиональная подготовка специалиста в рамках высшего образования предполагает формирование не только индивида с компетенциями, заданными функционалом потенциальной трудовой деятельности, но и полноценной личности, включенной в многообразие социальных процессов современности и участвующей в активной трансформации себя самого и окружающей среды.
Основным направлением социальных трансформаций в настоящий период являются процессы глобализации и мировой интеграции. Таким образом, вовлеченность в международную деятельность уже на стадии обучения является важным компонентом подготовки современного специалиста. К сожалению, обучаясь за рубежом, иностранные студенты зачастую показывают плохую успеваемость, и связано это, как представляется, не только с индивидуальной леностью или языковым барьером, но, скорее, с неумением учиться в предложенных обстоятельствах.
Будучи включенным в определенные социальные отношения, индивид, в зависимости от оснований идентификации, формирует различные социальные идентичности. Идентификация, рассматриваемая как деятельность субъекта по соотнесению себя с контрсубъектом в связности и непрерывности собственной изменчивости, определяется представлением о единстве ценностных парадигм субъекта и контрсубъекта. В то же время идентичность, являясь результатом процессов идентификации, воплощает эти ценности как в социальных практиках, так и в артефактах. Здесь необходимо отметить динамический характер как социальных идентичностей, так и ценностных парадигм, их определяющих. Приезжая в другую страну, индивид оказывается в социуме с иной этнической, культурной, цивилизационной идентичностью, которые предлагают актуализацию иных, отличающихся от привычных, социокультурных парадигм, определяющих ценностные основания деятельности.
Процесс образования, являясь специфическим видом деятельности и важным инструментом социализации, предполагает не только передачу и рефлексию знания в соответствии с представлениями о функционировании знания в данном социуме, но и вступление в особый вид коммуникации, чья форма определяется комплексом ценностных отношений, вследствие чего в центре внимания оказываются практики формирования идентичности, раскрывающие механизмы целеполагания, с одной стороны, и логику внутрисоциальных трансформаций – с другой.
В данном контексте наиболее перспективным представляется анализ цивилизационной идентичности, так как иные социальные формы (этносы, нации), составляющие основу современного мира, в силу установившихся многоуровневых социокультурных и политико-экономических связей, не способны существовать вне рамок цивилизации, взаимодействуя между собой для сохранения политической, экономической и других систем. Во избежание терминологической путаницы стоит уточнить, что в данном контексте под цивилизацией понимается «устойчивая социокультурная общность людей и стран, сохраняющих свое своеобразие и целостность на больших временных отрезках, несмотря на внешние влияния» [1]. Однако такой подход требует определенности в отношении понятий культура и цивилизация. В связи со сложившейся в социально-гуманитарных науках понятийной расплывчатостью и неоднозначностью употребления данных терминов, вопрос о соотношении указанных категорий является особенно актуальным [2]. В контексте предложенного исследования достаточно указать, что цивилизация предпо- лагает включение отдельных культур в качестве составных частей, являясь образованием более масштабным и устойчивым.
Это возможно лишь при наличии определенного вида идентичности, который выступает в качестве «общего знаменателя» для разрозненных социальных образований. Иными словами, цивилизационная идентичность является идентичностью «высшего» уровня, включающей в себя основные варианты социальных идентичностей, которые, в свою очередь, сводятся к этнокультурной и национальной.
Следовательно, недостаточно говорить о специфике образования в Германии или Китае; ценностные парадигмы, определяющие специфику функционирования знания в обществе и его трансляцию (образование), соотносимы с цивилизационной идентичностью общества: дальневосточной (конфуцианской) и европейской (христианской) соответственно.
Интересно, что китайская модель познания апеллирует скорее к конкретному, изучая феномены, но не создавая универсалии. Для китайского образа мышления характерно подчеркивание частного. Классические тексты конфуцианского канона не предлагают общих моральных законов или абстрактных принципов; вместо этого приводятся конкретные примеры случаев и поступков. Даже детские загадки и стихи (посредством которых происходит первичная инкультурация и социализация индивида) посвящены конкретным категориям бытия [3]. Это связано, как представляется, отчасти с иероглифическим письмом – идеографическая письменность, в основе которой так или иначе лежит изображение, с неизбежностью ориентирована на обозначение конкретного предмета. Это, кстати, явилось серьезной проблемой при переводе на китайский язык буддистских сутр, когда многие абстрактные понятия были обозначены конкретными иероглифами, уже имеющими место в китайском языке, в результате чего получился не перевод, а адаптированная интерпретация оригинала, учитывающая местные реалии.
На практике отсутствие обобщения как необходимого этапа познания ведет к привлечению большого количества примеров для утверждения собственной правоты или закрепления навыка. Так, в учебниках по китайской грамматике для иностранных студентов в основном рассматриваются конкретные грамматические модели, подкрепленные примерами. А так как большинство учебников по китайскому языку в настоящее время являются переводными и в них предлагается концентрическая подача материала (что отчасти оправдано нежеланием «перегрузить» студента на начальном этапе обучения), русские студенты, обучающиеся на среднем и более высоком уровнях, зачастую испытывают известные сложности в связи с отсутствием обобщающих правил.
В китайском языке существует термин, обозначающий понятие обучения, а именно [xuéxí], где [xué] – «учиться», а [xí] – «повторять». Действительно, образовательный процесс в Китае с древности сводится к заучиванию, цитированию текстов, а изучение и комментирование древних книг на протяжении веков продолжают оставаться одними из самых насущных задач образованной элиты [4]. По мысли Конфуция, учитель – это большой сосуд, а ученики – малые сосуды, и процесс образования представляет собой переливание из большого сосуда в малые. Примечательно, что сама система обучения требует многократного повторения однотипных заданий и не важно, проводится обучение каллиграфии или гимнастике ушу.
Для понимания природы этого феномена необходимо обратиться к пространственновременным представлениям китайцев. В соответствии с традиционной картиной мира залогом успешного функционирования социума является поддержание стабильности, что обусловлено постфигуративным типом культуры по классификации М. Мид – ситуация, когда все знание о мире ребенок получает, «находясь на руках у деда». Связано это с особым представлением о времени, когда общество движется в направлении от Золотого века к гибели, портясь и разрушаясь подобно человеку, и любое нарушение порядка, заданного предками, грозит гибелью всему социуму. Установление коммуникации с миром предков возможно посредством жертвоприношений и гадательных практик. Однако более важно, что способом общения может служить также и повторение: делая по образцу, возможно воссоздать оригинал, и не столь важно, что это – каллиграфия, боевые искусства или комментирование древних текстов; важен факт сакрального общения. Примечательно, что до последнего времени китайской культуре не был известен феномен подделки – копии картины или стихотворения имеют ту же ценность, что и оригинал. В отличие от европейского представления о «шедевре», отражающем свою эпоху и поэтому подлежащем реставрации, но не изменению (у Венеры Милосской до сих пор нет рук), произведения искусства в Китае – предметы настоящего, поэтому стало возможным восстановление скульптур в «Гроте Дракона» (г. Лоян), разрушенных в ходе культурной революции. Ины- ми словами, для китайцев древность не является чем-то прошедшим, она актуальна, и именно в прошлое смотрит китайское общество, ища ответы на проблемы сегодняшнего дня.
Здесь же необходимо отметить высокую авторитетность знания, причем знания прошлого и о прошлом. В Древнем Китае не сложилось сколь-нибудь выраженного противопоставления мифа и логоса. По словам В. Малявина, «в поисках назидательных уроков истории китайцы обращались не к живой памяти современников, а к «высокой», незапамятной древности» [5]. В результате культ знаний, пиетет перед преподавателем, т.е. человеком, знаниями обладающим, вера в истинность печатного или рукописного текста не позволяют ученикам ставить что-либо под сомнение – в отличие от западной системы обучения, где ученик должен превзойти учителя, формируется принципиально иной принцип: ученик должен быть подобен учителю. В Китае ученик не должен сомневаться.
Кроме того, необходимо отметить иные, чем на Западе, представления о цели образования. В Китае никто не ищет Истину, Первопричину, не исследует Мироздание и прочие занимавшие западных ученых мужей категории. Сутью традиционной китайской образовательной модели является подготовка кадрового состава для сложной системы управления государством. Иными словами, имеет место более явное, нежели в других странах, совмещение и взаимообусловленность процессов обучения и отбора кадров. Еще во времена династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) философ, советник императора Дун Чжун-шу предлагал: «Создавать университеты, чтобы обучить [кадры] для всего государства, создавать местные учебные заведения, чтобы обучить [кадры] для города» [6]. Таким образом, в Китае на протяжении веков главной функцией образования было воспроизводство чиновников, а деятельность учебных заведений рассматривалась как важная часть жизни государства. Система образования была необходимой составной частью контрольно-квалификационной власти, регулирующей основные социальные «лифты» в гражданской и отчасти в военной администрации. Сетевая система корпорации шэньши (ученых-чиновников) позволяла осуществлять воспроизводство кадров даже в самые тяжелые для государства кризисные периоды (политической раздробленности, смены династий и т.д.).
Сам экзамен на занятие должности представлял собой письменное размышление над поставленной этической проблемой, где претен- денту надлежало продемонстрировать не простое владение корпусом классических текстов и выдающейся риторикой, но образ мысли в контексте принятых в корпоративном сообществе стандартов. Претендент должен стать частью единого чиновничьего организма, отлаженная система которого не приемлет инородного тела.
Сегодня система подготовки специалистов в КНР, как и на Западе, имеет трехуровневую структуру: первая ступень [benke] идентична европейскому бакалавриату, срок обучения – 4–5 лет. Следующий этап [yanjiuyuan] – магистратура, срок обучения – 2–3 года. Третья ступень [boshi] соотносится с PhD. Однако при наличии такой «европеизированной» структуры подготовки методы обучения остаются те же, что и во времена Конфуция, – учить и повторять, тогда как в западной системе от магистранта и аспиранта требуются элементы креативной деятельности и критического познания. В этом контексте примечателен один из типов экзаменов в современной высшей школе – «экзамен с книгой», суть которого в наиболее правильном изложении рассматриваемого вопроса, цитирования с опорой на учебник. Различаются и предпочтительные формы обучения – в Китае нет места свободному выбору предметов и формирования студентом собственного учебного плана. А дискуссия и обсуждение в качестве предпочитаемой формы учебной деятельности явно проигрывают лекции и выступлению.
В числе главных качеств выпускника – являющегося, как и сотни лет назад, будущим элементом корпоративной среды, участника сетевых связей – оказывается умение работать в команде, готовность к подчинению, верность научным традициям и авторитетам, что ориентирует не столько на индивидуальное творчество, сколько на реализацию полученного потенциала и подкрепление его в социально-сетевых контактах с представителями корпоративной элиты.
Как следствие, сегодня китайские ученые активно участвуют в научно-исследовательской деятельности как в Китае, так и за рубежом. Однако их основные достижения весьма редко происходят в научно-исследовательских центрах и лабораториях Китая; китайские исследователи добиваются наиболее выдающихся результатов, «прорывов», прежде всего, будучи включены в иную (европейско-американскую) сетевую среду. Так, за всю историю самой знаковой в области науки Нобелевской премии (за исключением награды в области литературы) всего два китайца, Цзундао Ли в 1957 г. и Чарльз Куэн Као в 2009 г., получили эту престижную награду, оба раза за достижения в области физики. При этом необходимо отметить, что в первом случае ученый получил премию, работая в Чикагском университете (США), во втором случае нобелевский лауреат получил образование в Великобритании.
Вышесказанное позволяет определить отличительные черты цивилизационной идентичности китайского общества, а именно представление о прошлом как источнике легитимации новации в настоящем и будущем. Это определяет существующие подходы в организации и содержании трансляции знания в обществе – отсутствие критики знания, репродуктивная ориентация образовательного процесса, коллективный характер обучения.
Приезжая на учебу в российский вуз, китайский студент сталкивается с совершенно иными реалиями. Проведенный в 2013 г. автором статьи опрос преподавателей, обучающих иностранных студентов, показал, что среди черт, отличающих восточного студента от западного, названы замкнутость, желание избежать участия в дискуссии, проблемы при выполнении квалификационной работы, отсутствие вопросов к преподавателю по изучаемому материалу.
Последнее, как представляется, связано с представлением о «потере лица», ситуации, которой стараются избежать все участники коммуникации в китайском обществе. Если преподаватель не будет знать ответа на вопрос студента, то это будет потерей лица для преподавателя, чего, с точки зрения студента-китайца, допустить нельзя.
Кроме этого, преподаватели отметили затруднения у восточных студентов при выполнении заданий, связанных с применением алгоритмов. Например, на занятиях по иностранному
(английскому) языку студентам из Китая было сложно выполнить задания, в которых требовалось применить грамматическое правило, обсуждавшееся до этого. Логика российского преподавателя такова: проблема → правило → пример → самостоятельные упражнения. Однако отсутствие уже рассматривавшейся выше привычки к обобщению не позволяет студенту выполнить задание на должном уровне. Ему нужны примеры, много однотипных примеров и заданий.
Отдельной проблемой при обучении китайских студентов является то, что в Китае метод компиляции считается самодостаточным, полноценным творческим процессом, что идет вразрез с российской научной этикой и требованиями, предъявляемыми к квалификационным работам любого уровня.
Проанализированные характерные особенности поведения студентов-китайцев в рамках образовательного процесса за рубежом обусловлены рассмотренной выше логикой цивилизационной идентичности. Необходимо отметить, что схожие проблемы столкновения различных цивилизационных идентичностей возникают как при обучении российских студентов за рубежом, так и при приглашении иностранного преподавателя (например, в качестве носителя иностранного языка) [7].
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что игнорирование специфики цивилизационной идентичности участников образовательного процесса при организации обучения за рубежом может привести к недопониманию и эскалации конфликтогенности образовательной среды и, как следствие, снижению эффективности обучения иностранных студентов.
Список литературы Роль цивилизационной идентичности в формировании социокультурной парадигмы образовательного процесса в современном обществе (на примере обучения иностранных студентов из КНР)
- Новая философская энциклопедия. В 4-х т./Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; предс. научно-ред. совета В.С. Степин. -М.: Мысль, 2010. -Т. 3. -С. 334.
- Сайко, Э.В. Цивилизация. Восхождение и слом: структурообразующие факторы и субъекты цивилизационного процесса/Э.В. Сайко. -М.: Наука, 2003. -С. 16.
- Спешнев, Н.А. Китайцы. Особенности национальной психологии/Н.А. Спешнев. -М.: Каро, 2011. -С. 166.
- Кряклина, Т.Ф. Философско-социологические аспекты взаимосвязи культур и образования/Т.Ф. Кряклина//Сибирский педагогический журнал. -2004. -№2. -С. 120-126.
- Кряклина, Т.Ф. Национально-профилированный колледж народностей Севера как альтернативная форма образовательного учреждения: сущность, структура, содержание образования/Т.Ф. Кряклина//Медицина и образование в Сибири. -1994. -№1. -С. 79.
- Крюков, В.М. Текст ритуал: опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу/В.М. Крюков. -М.: Памятники исторической мысли, 2000. -С. 31.
- Малявин, В. Империя ученых/В. Малявин. -М.: Европа, 2007. -С. 18.
- Боревская, Н.Е. Государство и школа: Опыт Китая на пороге III тысячелетия/Н.Е. Боревская. -М.: Восточная литература, 2003. -С. 10.
- Кряклина, Т.Ф. Образование как фактор развития культур народов Сибири/Т.Ф. Кряклина. -Барнаул: Изд-во ААЭП, 2012. -С. 113-143.