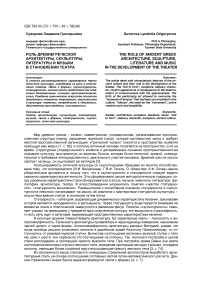Роль древнегреческой архитектуры, скульптуры, литературы и музыки в становлении театра
Автор: Суворова Юдмила Григорьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются характерные черты античной культуры, определена их роль в становлении театра. «Воля к форме», скульптурность, статуарность, ритмичность предстают как следствие детерминации сознания пространственностью. Рождение сценического искусства позволило преодолеть «моменты напряжения», накопившиеся в культуре: «немоту», потребность в «движении», действенном произведении, «осязаемости».
Театр, архитектура, скульптура, литература, музыка, "воля к форме", статуарность, скульптурность, античная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14940880
IDR: 14940880 | УДК: 792.03::[72
Текст научной статьи Роль древнегреческой архитектуры, скульптуры, литературы и музыки в становлении театра
Мир древних греков – космос, симметричная, упорядоченная, организованная пространственная структура (наряд, украшение, воинский строй), которая противостоит хаосу и требует жесткой пространственной организации. «Греческий “космос” покоится в пространстве, выявляя присущую ему меру» [1, с. 66], и поэтому античный человек полагается на пространство, а не на время. Структурная упорядоченность космоса и детерминация сознания пространственностью породили культуру, выстроенную по законам Логоса, которая была телесной, зримой, созерцательной и требовала непосредственного, деятельного участия человека. Древний грек не просто смотрит на вещь, он ощупывает ее взглядом [2].
Ассоциируемость античной культуры со скульптурными образами во многом способствовала тому, что исследователи (И.И. Винкельман, Г.В.Ф. Гегель, О. Шпенглер, А.Ф. Лосев) нашли убедительные аргументы в пользу того, что в скульптурности и статуарности следует видеть сквозную характеристику античности. Это сформировало целую методологическую традицию, когда указанные характеристики стали обнаруживаться в эпосе, музыке, живописи, литературе, философии, архитектуре, театре. В искусствоведении укоренились понятия «чувство статуарно-сти», «статуарность мышления». Размышления о когнитивном значении статуарности и скульптурности невольно наталкивают на мысль об аналогии с мастерством статуарной скульптуры – искусством ваяния статуй, в основном путем литья.
Статуарность – категория, выражающая динамическую характеристику явления, признаками которой являются неподвижность и застывшесть. Через статуарность акцентируется внимание на моментах покоя и пластической замкнутости в движении фигур. Понятие «скульптурность» помогает указать на имеющиеся у предмета ярко очерченные контуры, его выпуклость и рельефность, то есть речь идет о категории, выражающей пространственные характеристики явлений.
В культуре архаики главенствовала архитектура. Ее характерные черты – телесность и ан-тропоморфичность. Телесность архитектуры проявлялась и через единицы измерения, назначение частей целого, и через форму. Антропоморфичность архитектуры раскрыл Витрувий, указав, что когда ионийцы решили установить колонны в дорийском храме Аполлону Панионийскому, то оттолкнулись от размера мужской ступни. Вычислив соотношение величины мужской ступни к телу как один к шести, они перенесли это соотношение на колонны. Так, колонна и постройка в целом стали воссоздавать в пропорциях красоту мужского тела. При постройке храма Диане они взяли соотношение величины ступни и женского тела, определив пропорцию как один к восьми, и создали колонны, имеющие более стройный вид и воссоздающие красоту женского тела [3, с. 74].
Из изложенного выше становится очевидным стремление архитекторов выработать архитектурный стиль на основе соотношения составных частей путем математического расчета. Данное стремление Генрих Булле выразил формулой «воля к форме» [4, c. 7].
Эта «воля к форме» вызывает к жизни еще одну характерную черту греческой архитектуры, а именно «наружность», поскольку внешнее господствует над внутренним. Внутрь храма мог входить только жрец, там находилась статуя Бога, и эта внутренняя часть не играла никакой эстетической роли, ее назначение было сугубо прагматическим – предохранять статую от непогоды и осквернения. Греческая храмовая архитектура уделяла большое внимание внешнему, игнорируя внутреннее пространство. Даже у площадей не было центра. Не дома окружали площадь, но, напротив, площадь окружала дома. Акцент делался на скульптурности, телесности зданий, нежели на их пространственной организации.
Упорядоченность, симметричность и гармония архитектурных форм начинают давить на человека своей монументальностью, неподвижностью и сосредоточенностью на «внешнем». Человеческий дух обращается к скульптуре. Скульптура не ограничивается «внешностью», «наружностью», характерной для архитектуры. В скульптуре заключена возможность движения, и античный дух улавливает эту возможность.
Греческая скульптура, оттолкнувшись от строгой симметричности архитектуры, от застывшей формы, внутренней пустоты, переходит к движению и, наполнившись духовностью, уже в классический период становится «бесконечной формой духовной телесности» [5, с. 25]. Изначально архаическая статуя была фронтальна и неподвижна, находилась в прямой позе, на лице была видна так называемая «архаическая улыбка». Но постепенно она пришла в «движение»: сначала ноги, затем руки, голова и в последнюю очередь торс. Статуя уже подвижна, но движения ее еще скованны. Она пытается преодолеть грубость материала, сбросить с себя скованность и начать не просто двигаться, но «говорить». Это обстоятельство представляется важным, поскольку позволяет рассматривать появление театра как ответ на вызов, сформировавшийся в греческой скульптуре. Испытывая сильное влияние скульптуры, являясь статуарным, ранний театр становится художественным средством, помогающим статуе преодолеть свою «немоту».
Греческая статуя двигается только в классический период. Первоначально это «движение действия», которое должно быть оправдано ситуацией или мотивом. Если оправдания нет, то она вновь становится неподвижной. Постепенно, наполняясь духовностью, статуя переходит от «движения действия» к «пространственному движению», не требующему оправдания, мотива действия (например, «Менада» Скопаса). Такое движение означает преодоление грубой телесности, власть духа, воли над «идеализированной» материей. Задача скульптора – изображение не действительности, но идеального до максимума, усиливающего пластическую энергию и ощущения зрителя, решается столь эффектно, что скульптура становится более «реальной», нежели действительность, обращаясь к интеллекту зрителя. Теперь, когда позы и жесты достигают наивысшего предела, безмолвная «идеальная» материя при всей своей захватывающей дух восхитительности начинает давить на сознание человека. Возникает потребность в жесте, в движении.
Потребность в движении пронизывает всю культуру античности, не обходя стороной и литературу, в которой начинает главенствовать более «динамичный» жанр. Характеризуя произведения Гомера, С.С. Аверинцев пишет: «Рассказ останавливается, рассказчик и читатель на время выходят из его потока, чтобы в незаинтересованном созерцании статичной картины пережить свою внеситуативность» [6, c. 61]. Описание, словесная пластика позволяют греческой литературе состязаться с пластическими искусствами в создании застывших (пусть даже на малое время) восхитительных картин. Но статуарность уже не в полной мере соответствует духу времени, необходимо движение. И драма позволяет преодолеть эту неудовлетворенность.
Аристотель определяет драму как «изображение событий в действии» [7, с. 1066]. Выявляя отличия эпоса от трагедии, он акцентирует внимание на том, что эпос «имеет простой метр и представляет собой рассказ» [8, с. 1071]. Длительность эпоса и трагедии различна. Трагедия пытается вместиться в пределы «одного круговорота солнца», в то время как эпос не ограничен временными рамками. Останавливаясь подробнее на трагедии, Аристотель заявляет, что целью ее является изображение событий, действий, а не характеров, ибо «без действия трагедия невозможна, а без характеров возможна» [9, с. 1073].
Необходимо несколько слов сказать и о музыке. Музыка, которую мы знаем сейчас, существенно отличается от музыки, существовавшей у древних греков. По преимуществу она была вокальна и одноголосна. Для древних греков совершенно невозможна полифония, для них музыка – это прежде всего пластика тонов, ритм. Например, Платон утверждал, что музыка – это совокупность ладов и ритмов.
Сама по себе музыка вне логического оформления была непонятна, не способна выражать чувства. «В таких случаях, когда ритм и гармония лишены слов, бывает очень трудно распознать их замысел и к какому из достойных внимания родов относится это подражание», и, более того, «игра на флейте и на кифаре независимо от пляски и пения исполнена немалой грубости» [10, с. 148]. Музыка не мыслилась как самостоятельный феномен. Согласно Аристотелю, «музыкальная композиция составляет важнейшее украшение трагедии» [11, с. 1074]. Согласно Платону, «отдельно взятая игра на флейте и на кифаре заключает в себе нечто в высокой степени безвкусное и достойное лишь фокусника» [12, с. 148].
Об эмоциональном воздействии музыки в Греции говорили много, о воспитательном ее значении упоминали философы и политики, но ей отказывали в самостоятельном существовании. Ценна не музыка сама по себе, а воздействие, которое она оказывает. Древние греки не чувствовали мощи и возможностей музыки. Возможно, это связано с превалированием пространственной детерминации сознания, которая требовала зримой телесности. Музыка должна быть осязаема, статуарна, доступна для «ощупывания» взглядом, а это возможно, только если она связана со словом или какой-либо количественной характеристикой. Отсюда и вокальность, и ритмичность музыки. Развиваются прежде всего пространственные виды искусства. Музыка как временной вид вынуждена находиться на вторых ролях и служить аккомпанементом к слову или движению. Место и содержание музыкального искусства постепенно менялись. Эти изменения происходили по мере осознания музыки как внелогического феномена. Через ритмичность произнесения (декламации) текстов и движения актеров музыка становилась в театре осязаемой.
Статуарность в театре проявлялась в статичной позе актера на сцене. Первоначально актер древнегреческого театра был малоподвижен, неподвижность нарушалась главным образом в момент передачи сильных страстей, эмоций. В основном движения были сдержанными, плавными, а акцент делался на жестах. Аристотель сетует на исполнителей, которые делают множество движений, говоря, «как будто зрители не замечают (того, что нужно), если исполнитель не добавит от себя жестов». Он подчеркивает, что «в телодвижениях для нее (трагедии) нет необходимости» [13, с. 1111].
«Воля к форме» проявлялась в строгом соблюдении составных частей плана драмы. Аристотель не только описал составные части трагедии, но и сформулировал ее основные принципы. Трагедии надлежит иметь шесть частей: «сценическую обстановку, и характеры, и фабулу, и текст, и музыкальную композицию, и мысли» [14, c. 1072]. Описанные Аристотелем принципы длительное время доминировали в теоретических работах, посвященных театру.
Скульптурность присутствовала в костюмах, позах и жестах исполняющих роли актеров. Основой костюма актера был гиматий – пурпурный плащ. Подобные плащи носили служители Диониса во время исполнения религиозных церемоний, но для нужд театра они были несколько видоизменены. На ноги актеры надевали котурны, которые зрительно увеличивали рост. Лица актеров скрывали маски, выражающие, в зависимости от содержания театральной постановки, те или иные эмоции. Все это в совокупности придавало актеру облик статуи.
Таким образом, на рубеже VI–V вв. до н. э., когда архитектурная монументальность, нагруженная стремлением к форме, давит немотой, статуя нуждается в движении, трагедия – в действенном воспроизведении, а музыка – в осязаемости, рождается античный театр, который вбирает в себя все характерные черты существовавших до него видов искусств: «волю к форме», статуарность, скульптурность и ритмичность.
Ссылки:
-
1. Аверинцев С.С. Образ античности. СПб., 2004. 480 с.
-
2. См.: Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985. 288 с.
-
3. Витрувий. Десять книг об архитектуре. Репр. изд. М., 2006. 328 с.
-
4. Варнаке Б.В. Античный театр. Одесса, 1919. 16 с.
-
5. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.,1993. 959 с.
-
6. Аверинцев С.С. Указ. соч. С. 61.
-
7. Аристотель. Поэтика // Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Минск, 1998. 1392 с.
-
8. Там же. С. 1071.
-
9. Там же. С. 1073.
-
10. Платон. Законы // Платон. Сочинения : в 4 т. Т. 3, ч. 2. СПб., 2007. 731 с.
-
11. Аристотель. Указ. соч. С. 1074.
-
12. Платон. Указ. соч. С. 148.
-
13. Аристотель. Указ. соч. С. 1111.
-
14. Там же. С. 1072.
Список литературы Роль древнегреческой архитектуры, скульптуры, литературы и музыки в становлении театра
- Аверинцев С.С. Образ античности. СПб., 2004. 480 с
- Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985. 288 с
- Витрувий. Десять книг об архитектуре. Репр. изд. М., 2006. 328 с.
- Варнаке Б.В. Античный театр. Одесса, 1919. 16 с.
- Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.,1993. 959 с.
- Аристотель. Поэтика//Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Минск, 1998. 1392 с
- Платон. Законы//Платон. Сочинения: в 4 т. Т. 3, ч. 2. СПб., 2007. 731 с