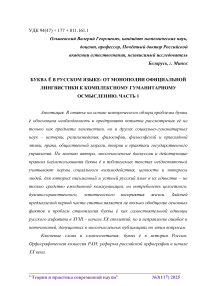Роль физической культуры в системе современного образования
Автор: Ольшевский В.Г.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 3 (117), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе исторического обзора проблемы буквы ё обоснована необходимость и предпринята попытка рассмотрения её не только как предмета лингвистики, но и других социально-гуманитарных наук - истории, религиоведения, философии, философской и прикладной этики, права, общественной морали, теории и практики государственного управления. По мнению автора, многочисленные дискуссии и действующие правила (не)использования буквы ё в публикуемых текстах не(достаточно) учитывают нормы социального взаимодействия, ценности и интересы людей, для которых письменный и устный русский язык в их единстве - не только средство ежедневной коммуникации, но потребность целостного, духовно-нравственного, эстетического восприятия жизни. Задачей предлагаемой первой части статьи является не только обобщение основных фактов и проблем становления буквы ё как самостоятельной единицы русского алфавита в XVIII - начале XX столетий, но и исправление ошибок и неточностей, допущенных в многочисленных публикациях по этим вопросам
Буква ё в истории России, орфографическая комиссия ран, реформа российской орфографии в начале хх века
Короткий адрес: https://sciup.org/140310967
IDR: 140310967
Текст научной статьи Роль физической культуры в системе современного образования
Мой верный друг! Мой враг коварный!
Мой царь! Мой раб! Родной язык!
Валерий Брюсов
В декабре 2021 г. была опубликована первая из заявленной мной серии статей о проблемах отечественной гуманитаристики. В ней была дана общая характеристика предопределённого советской государственной идеологией, во многом сохраняющегося и в настоящее время, состояния социальногуманитарных наук, подчёркнута необходимость их интеграции, междисциплинарного развития как в научных исследованиях, так и в преподавании в средней и высшей школе [23]. В последующих статьях предполагалось рассмотреть структуры и взаимосвязи природы и общества, геосфер и сфер социума как объективных оснований взаимодействия и интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний. На этой основе можно было бы обозначить систему наук в целях дальнейшего профессионального выявления и анализа межпредметных и междисциплинарных связей. Для меня, как экономиста по образованию и более сорокалетней преподавательской деятельности с явно выраженным интересом к системе социально-гуманитарных наук в целом, это приобретало особый смысл, поскольку в постсоветской гуманитаристике преобладает критика так называемого «экономоцентризма». По этой теме белорусский философ с высшим образованием по биологии и экологии даже защитила в России, правда, «с двух заходов», докторскую диссертацию [см.: 31; 32]. Смена специальности защищаемой квалификационной работы была обусловлена стремлением исключить из процедуры её экспертной оценки квалифицированного специалиста по экономическим наукам, как это должно было бы быть. По моему мнению, попытки девальвировать роль и значение экономики в жизни общества и экономических наук в системе знаний пока ещё не получили адекватной реакции экономического сообщества.
Предполагалось, что запланированная серия публикаций будет завершена статьёй о гуманитарной культуре переходного общества, не вполне очистившейся от иллюзий прошлого. Анализ долго считавшихся научными, но фактически являющихся утопическими теоретических взглядов на товарное производство, рынок, деньги и другие стоимостные категории и соответствующей им аксиологии делает необходимым формирование новой денежной культуры.
Теоретической основой междисциплинарности знания является системная парадигма. По словам известного методолога, руководителя знаменитого Московского методологического кружка (ММК) Г.П. Щедровицкого, синтез знаний представляет собой их объединение и соорганизацию в единую систему [42, с. 634]. Да и сентенция великого И. В. фон Гёте в его «Фаусте», вложенная в уста Мефистофеля, в переводе Б. Л. Пастернака «Употребляйте с пользой время. Учиться надо по системе» [6, с. 68] ориентировала в этом направлении. Изучение истории системных идей привело к философии Платона и Аристотеля, Э. Б. Кондильяка и П. А. Гольбаха, И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля, к работам отечественных исследователей и комментаторов их творчества В. Ф. Асмуса, П. П. Гайденко, В. Я. Дубровского, А. Ф. Лосева, Н. В. Мотрошиловой, А. П. Огурцова, В. М. Розина, А. Н. Чанышева и других. И что особенно важно, некоторые различия в трактовке названными учёными роли Платона и Аристотеля в «открытии системности» заставили меня обратиться к лингвистике, в частности, – к теории научных терминов и понятий. И здесь мне пришлось по-новому осмыслить то, чему я раньше не придавал особого значения, определив для себя отношение к букве ё в русском языке в соответствии с рекомендацией Вольтера: «Письмо – изображение голоса: чем оно более похоже, тем оно лучше» [цит. по: 4, с. 308]. Точнее, моя позиция, как это будет показано в дальнейшем изложении, мотивирована гораздо сложнее, но главное то, что я всегда писал ё, там, где она, по моему мнению, должна быть. И вдруг через год довольно напряжённой «внутренней» работы (а это был 2022 г.), в результате которой впервые почти за 50 лет научной деятельности мною не было опубликовано ни строчки, я обнаружил в Интернете мою статью, которую журнал «Historicus» позаимствовал без моего участия в журнале «Вопросы истории», без ё [см.: 25; 26]. И я начал внимательно читать опубликованные мной работы. Оказалось, что в течение нескольких десятилетий мои статьи «очищали» от буквы ё не только «Вопросы истории» (1999, № 3), но и многие другие журналы России и Беларуси: «ЭКО: Экономика и организация промышленного производства» (1998, № 9), «Военно-исторический журнал» (2005, № 12), «Вопросы экономики» (2006, №1), «Народное хозяйство. Вопросы инновационного развития. Всероссийский научно-практический журнал» (2010, № 2), «Общественные науки. Всероссийский научный журнал» (2010, № 2), «Экономика, социология и право» (2010, № 5), «Гуманитарные проблемы военного дела. Военно-научный журнал» (2015, № 2), «Вестник Башкирского института социальных технологий (БИСТ)» (2015, № 4) и т. д.
В белорусском языке употребление буквы ё является обязательным, её замена на е не допускается. Но оказалось, что и в Беларуси в русскоязычных журналах не обошлись без «чистки» ё: «Вестник Ассоциации белорусских банков» (2003, № 37; 2007, № 34), «Вестник Военной академии Республики Беларусь» (2013, № 3; 2014. № 2, 4; 2015, № 2, 3); «Идеологические аспекты военной безопасности» (2010, № 1, 2; 2011, № 1, 3; 2012, № 1, 4; 2013, № 1).
причинах отзыва. Первоначально я считал ею невыполнение журналом своих обязательств по размещению в elibrary. Сейчас я знаю, что в статье были допущены некоторые неточности, на которые мне должны были указать рецензенты, но экспертиза статьи не была проведена специалистами на должном уровне. Процедура отзыва описана в документах Ассоциации научных редакторов и издателей, я попросил её выполнить. Но, хотя я отправил заявление несколько раз, никакого отклика на него я не получил. Поэтому я считаю себя свободным в использовании материалов статьи, находящейся в архиве журнала, и даже благодарен редакции за то, что недоработанный вариант статьи в elibrary отсутствует. Очевидно, за это я должен благодарить компетентных работников электронной библиотеки.
В процессе ознакомления с современными проблемами лингвистики я вспоминал мои студенческие годы. После первого курса экономического факультета Ленинградского университета мне посчастливилось попасть в интернациональный студенческий строительный отряд, который работал в тогда ещё братской Польше на различных объектах социальной сферы. Наш университетский отряд строил школу в городе Ольштын. Месяц мы работали по месту постоянной дислокации, а затем десять дней ездили по стране, знакомились с её людьми и достопримечательностями. В составе отряда были студенты разных факультетов. Мы тесно общались, говорили и спорили о проблемах жизни, различных наук. Однажды я стал свидетелем и участником бурной дискуссии будущих филологов о правилах орфографии, произношения и ударения в русском языке. Одни из «специалистов» с энтузиазмом доказывали необходимость строго придерживаться установленных единых правил и норм, исключая какие-либо варианты. Другие говорили о правах народа в решении вопросов языка: «Как говорит и пишет народ, так и правильно!». Тогда я солидаризировался с первой точкой зрения. Вспоминая эту дискуссию в наши дни, приходится всё больше сомневаться в возможности гармонизации исключающих друг друга точек зрения на использование пресловутой, по словам доктора филологических наук А. Ю. Корбут, «буквы, порождающей проблемы» [13]. Но, как мне представляется, сегодня буква ё уже стала проблемой не только русского языка, но и общества в целом.
Разумеется, каждый человек воспринимает язык по-своему. Читая в статье талантливого, многопланового автора газеты «Известия» Г. А. Олтаржевского соответствующие правилам нынешней официальной лингвистики фрагменты «по указу Петра I был введен Гражданский шрифт»; «упраздненная ранее буква»; К. Разумовский «получил этот почетный пост (президента Академии наук – В.О.) еще при Елизавете, но особенной активности на нем не проявлял» [22], невольно задаёшься вопросом, как это поймёт не отягощённая знанием тонкостей русского правописания молодёжь (курсив везде мой – В.О.). Мне трудно воспринять в учебном пособии по философии для аспирантов [14] словосочетания «приемы исследования», «книга дает возможность», «объем знаний» «ученый, оставаясь ученым, не перестает быть простым человеком». Эти, и другие подобные обороты выводят меня из состояния душевного равновесия, приумножают и сдвигают морщины на моём 78-летнем лбу. А имена И. В. Гете, Л. Н. Гумелева, Ш. Л. де Монтескье и П. Рикера, В. С. Степина и В. А. Кутерева, С. Т. Коненкова, академиков-лингвистов О. Н. Трубачева и Д. Н. Шмелева, напечатанные без ё [14; 28; 33], приводят меня в состояние психологического шока и жгучего стыда за тех, кто подобными «изысками» наносит моральный ущерб владельцам имён собственных. Невольно вспоминается диалог двух мошенников – по поведению «хама» и «интеллигента» – из известной кинокомедии «Бриллиантовая рука»: «Не беспокойся Козлодоев!» – «Казадоев!!!» – «Казладоев!!! Буду бить аккуратно, но сильно!». В дальнейшем изложении мы ещё вернёмся к нравственным и правовым аспектам искажения в печати собственных имён, не только давно привыкших к снисходительному отношению к посягательствам на человеческое достоинство граждан нашего отечества, но и великих представителей зарубежной мировой науки, культуры и, как говорят, «простых», но обладающих личностным правосознанием людей.
На мой взгляд, нельзя спокойно воспринимать сентенции некоторых известных специалистов за пределами лингвистики, называющих ё «недобуквой», пишущих: «Оставим сакральный трепет. Так ли тяжело нам живется без ё? Мы говорим и пишем Депардье (вместо Депардьё), Рерих (а он чистый Рёрих) и Рентген (который на самом деле Рёнтген), не страдая ни секунды. В то же время все знают, что Гете — это Гёте. … Взрослые люди вполне справляются с чтением и знают, как произносятся слова. В книгах для дошкольников ставят ударения и пишут букву ё, чтобы ребенок научился правильно читать. Взрóслый, как прáвило, спотыкáется при чтéнии подóбных упрощённых тéкстов» [17]. С каких это пор при чтении нормального русского языка большая часть «простых» русскоязычных людей «спотыкается»? Ведь они привыкли без лингвистических тонкостей читать, как пишется, и писать, как читается. И потом: имя Иоганна Вольфганга Гёте действительно знакомо всем, кто учился в наших школах, но, скажем, имя Йоханнеса Тиннеса Бё (родился в 1993 г.), очевидно, знакомо не всем людям разных возрастных групп. В русскоязычном Интернете знаменитого норвежского биатлониста, пятикратного олимпийского чемпиона, трёхкратного призёра Олимпийских игр, 20-кратного чемпиона мира, добившегося 88 личных побед в Кубке мира, часто называют Бе. Вряд ли это может понравиться нашему ныне здравствующему современнику, как и его родному брату – 3-кратному олимпийскому чемпиону и многократному чемпиону мира по биатлону Тарьейю Бё.
Современное состояние буквы ё в русском языке подготовлено всей «многострадальной» историей этой самой эмоциональной, некоторые авторы называют скандальной, буквой русского алфавита, её судьба в русском письме уникальна. С одной стороны, охарактеризованный в Википедии как известный лингвист «широкого профиля» А. А. Реформатский на основе краткого обзора истории, полемики и аргументации «за» и «против» буквы ё в 1964 г. в преамбуле к сформулированным им правилам её применения констатировал как исторически несомненный факт: «Русский алфавит состоит из 33 букв, буква ё занимает свое отдельное место вслед за е под порядковым номером «семь» и должна в любых алфавитных списках, в том числе и в словарях, учитываться как самостоятельная единица» [32, c. 32]. Но публикующиеся авторы, дополняющие мои собственные впечатления, свидетельствуют об иной практике: «В начальной школе учат, что в русском алфавите 33 буквы, включая букву ё. В прессе же используется алфавит из 32 букв: буквы ё в нём нет. Я пишу свои работы с буквой ё, в издательстве сажают младшего редактора выскабливать мои точки над е, и не только в словах общей лексики (мёд, пришёл, пчёлка), но и в словах специальной лексики, к которым относятся имена и фамилии людей, географические названия, термины из различных областей науки и техники» [цит. по: 36]. Понятно, что здесь описан самый примитивный метод «обезёкивания» сравнительно небольших текстов, несомненно, обработка более крупных «объектов» требует применения более эффективных методов.
Очевидно, следует признать, что эта практика противоречит общей гуманитарной теории. По крайней мере, такой вывод в первоначальной постановке можно сделать из утверждения доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой китайского, вьетнамского, лаосского и тайского языков МГИМО (У) А. Н. Алексахина: «Русская азбука из тридцати трёх букв – это первооснова культуры русского мира и всех говорящих и пишущих на русском языке» [1, с. 34].
История буквы ё многократно описана, но оказалось, что и она, как и многое другое в истории отечества, нуждается в существенных уточнениях. Во многих источниках постоянно повторяется, что она была «изобретена» 18 (29) ноября 1783 г. Российский писатель, публицист, общественный деятель, исследователь в сотрудничестве с историком Е. В. Пчеловым истории буквы ё, энтузиаст полного возвращения её в печать В. Т. Чумаков неосторожно назвал эту дату «днём рождения» буквы ё [39]. Вслед за ним эту ошибку повторили многие «специалисты», «эксперты», журналисты [см., напр.: 2; 10; 21; 38], и она прочно вошла в «сознание масс». Некоторые авторы даже утверждали, что в этот день буква ё «была введена в обращение» [3, с. 2]. С начала 2000-х годов в России дату отмечают, если не как праздник, то, по меньшей мере, как памятную дату истории страны. «Круглые» юбилеи сопровождаются новыми публикациями, тиражирующими различные ошибки и неточности.
Исследования, проведённые В. Т. Чумаковым в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, позволяют выяснить подлинную историю появления буквы ё в русском алфавите и языке. Ключевыми в этой истории можно считать следующие, по протоколам описанные им, события [далее, если не оговорено иное, цитируется по: 40].
Первое заседание созданной княгиней Дашковой Академии, в частности, для подготовки Академического словаря русского языка, названного «Словарь Академии Российской», состоялось 21 октября 1783 г. В его протоколе № 1 приведён полный список 31 участника заседания (в дальнейшем к ним добавилось ещё 23 человека), в том числе председательствующих, впоследствии руководивших Академией, полностью поименованных:
«1. Ея сиятельство княгиня Екатерина Романовна Дашкова – Ея Императорского Величества Статс-дама, Императорской Академии наук директор, Императорской Российской Академии председатель, Ордена свят<ой> Екатерины кавалер, Стокгольмской Королевской Академии наук и Санкт-Петербургского вольного экономического общества член.
-
2. Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гаврила – Член Санкт-Петербургской Императорской Академии наук».
-
4. Ея Императорского Величества духовник протоиерей Иван Иванович Панфилов».
Далее, до прочих академиков, названы другие иерархи православной церкви, участвующие в заседании:
«3. Архиепископ Псковский и Рижский Иннокентий.
На следующем собрании, в субботу 28 октября 1783 г., обсуждались общие вопросы: задачи созданной академии, суть и направленность её трудов, в частности Словаря, и подходы к осуществлению проектов. Писарь зафиксировал слова директора Императорских театров, поэта, историка, И.П. Елагина: «1. Как главный предмет Академии есть вычищение и обогащение языка российского и 2. Правила витийства и стихотворчества».
В субботу, 11 ноября 1783 года, председательствовал его высокопреосвященство Гаврïил. Продолжалось обсуждение, по современной терминологии, концепции деятельности Академии.
Через неделю, в субботу, 18 ноября 1783 г., по словам Чумакова, «о котором столько уж раз написано, и всё с чужих слов или публикаций», «… Ея Сиятельство княгиня Екатерина Романовна предлага<ет> собранию в разсуждении букв, что нетокмо не надлежит сокращать азбуки; но ещё непременно нужно ввести две новыя буквы.
-
1- е. (г c точкой и титлом наверху), соответствующей немецкому или латинскому g для различия многих слов, которыя одним только выговором разнятся, например, градъ городъ и градъ, смерзшиеся капли с атмосферы падающия;<...>.
Подчеркнём: вопрос о введении в Словарь графемы (буквы), отвечающей за «выговоры, уже введённые обычаем» (матёрый, ёлка, ёж, ёл) был передан на рассмотрение владыке Гавриилу. Присутствующий на заседании Г. Р. Державин стал использовать букву ё в своей личной переписке; в 1798 г. он впервые употребил её в фамилии Потёмкин. Но официальное утверждение предложенных Дашковой нововведений потребовало ещё достаточно много времени.
В заседании во вторник, 23 января 1784 г. избранный в академию переехавший в Россию, серб по происхождению, педагог, выпускник Венского университета, владевший многими европейскими языками, возведённый в дворянство Австрийской империи за разработку и активное участие в осуществлении реформ образования, впоследствии дворянин Российской империи Фёдор Иванович Янкович де Мириево (у Чумакова ошибочно назван Иван Фёдорович Янкович, это сын академика Янковича, генерал-лейтенант кавалерии, участник Наполеоновских войн, погибший в 1811 г.) высказал «мнение о Славяно-Российских буквах с доказательством о их происхождении и которые из числа азбучного выключено быть долженствует» – «против которого Академии Председатель предлагала, что нам не токмо уменьшить, но и некоторые выгодно прибавить должно. Сия есть истинная выгода азбуки нашей, что по различным выговорам языка Славянороссийского имеем мы нужду в разных буквах; и тем самым удобно можем себя приучить к выговорам почти всех языков Европейских: Россияне изучая иностранные языки могут говорить как природные французы, немцы, итальянцы, англичане и пр., но редкий француз говорит хорошо по немецки, немец по французски, потому что в немецкой азбуке многих недостаёт выговоров для француза; во французской – для немца и пр. … <...>…пример Екатерины II, которая показует нам путь собственным своим примером по обогащению и очищению отечественного языка нашего: ревностно стараться не только соблюсти уже принятое полезное языку нашему, но и обогащать оный».
Наконец, 25 ноября 1784 г. в заседании, посвящённом годовщине основания Академии, принимается пространная торжественная декларация, в которой подводятся итоги деятельности за истекший период. В ней воздаётся должное Императрице, которая «…первым себе поставила долгом вникнуть, так сказать, в стихии языка и рассмотреть все буквы или письмена в азбуке употребляемые». И далее: «Ибо невзирая на превосходство нашего алфавита перед всеми Европейскими в буквах обилие, подающее Россиянам способность в чистоте выговора слов чужестранных, большее наше сообщение с соседними народами и многие другие причины и обстоятельства ввели в язык наш новые звуки, кои буквами нашими мы изобразить не можем, и коих употребление зделалося всеобщим; по чему и начертание их, паче же для различения таких речений, коих смысл произношением сих токмо звуков отличается от смысла других собуквенных им слов, стало необходимым.
Для сего Академия, к означению двух нужнейших из сих букв, сочла за необходимость принять в алфавит наш две новые буквы; из коих бы одна во всём соответствовала выговору греческия γ (гамма) или латинского g; а другая выражала бы iôту».
Таким образом, 18 (29) ноября 1783 г. нельзя считать «днём рождения» буквы ё. Надёжным обоснованием этого существенного вывода является хорошо известное всем взрослым людям различие между зачатием и рождением ребёнка. Следуя этой аналогии, можно абсолютно уверенно утверждать, что в указанную дату состоялось лишь «зачатие» идеи буквы ё, начало её непростой истории. Её «рождение», как показала история, пока что потенциальное превращение в самостоятельную единицу русского алфавита произошло 25 ноября (6 декабря) 1784 г. Что касается буквы г «с точкой и титлом наверху», то в процессе развития языка необходимость в ней отпала. В современных условиях различия слова «град» в смыслах «город» и «смёрзшихся капель, с атмосферы падающих» определяется контекстом.
Несмотря на то, что буква ё была официально признана, в течение длительного времени она в печати не использовалась. Согласно распространённому заблуждению, впервые её употребил Н. М. Карамзин в 1797 г. (В. Т. Чумаков уточнил, что это произошло в 1796 г.) в словах зарёю, орёл, мотылёк, слёзы и в глаголе потёк в составляемом и редактируемом им сборнике стихов «Аониды». (Кстати, он объяснил в то время ещё непривычное написание: «Буква ”е” с двумя точками наверьху заменяет “io”»). На самом деле, как установил Е. В. Пчелов, первой книгой с буквой «ё» стало произведение «И мои безделки», опубликованное годом раньше, в 1795 г., поэтом, баснописцем, обер-прокурором Сената, а потом министром юстиции И. И. Дмитриевым [22]. Поскольку книги Карамзина были более читаемыми и популярными, это заблуждение вошло в историю, часто повторяется и в наши дни, даже в энциклопедии «Русский язык» [33, с. 177].
По мнению А. А. Реформатского, появление буквы ё сыграло значительную роль в истории русского языка: в XVIII в. было важно показать на письме отличие русских словоформ от соответствующих церковнославянских, в XIX в. существенно было на письме показать отличие русских слов от иноязычных. «Таким образом, “борьба за ё” была небольшим звеном в движении за утверждение национального самосознания применительно к письменной форме русской речи» [32, c. 28].
Тем не менее, и в XIX в. новая буква приживалась с большим трудом. Сам Карамзин в своей многотомной «Истории государства Российского», которая вышла в 1816 – 1817 годах, ё не применял. По свидетельству упомянутой выше А. Ю. Корбут, сказалось то, что «в России XVIII–XIX веков “ёкающее” произношение оценивалось как простонародное, произношение “подлой черни”, тогда как “церковный” “е́кающий” выговор считался более культурным и аристократическим»; «…классицизм ХVIII века почти полностью отверг букву Ё… Лишь отдельные издания и авторы рукописей эту букву продолжали употреблять. Можно сказать, что наличие буквы Ё в рукописи или печати было признаком зарождающегося демократизма, а её отсутствие – признаком аристократичности автора или издателя» [13, с. 76].
В филологической науке споры о ней продолжались и во второй половине XIX в.: одни предлагали сделать её обязательной, другие – отказаться от неё совсем. В начале 1860-х годов педагог-словесник В. Я. Стоюнин организовал комиссию по упрощению орфографии русского языка. Не будучи специалистом в области истории лингвистики, я могу ошибиться, но можно предположить, что это была первая Орфографическая комиссия, вошедшая в историю под названием «Орфографический конгресс» 1862 года [см.: 7, с. 48-53]. В нём участвовали более 100 петербургских педагогов, большинство из которых считали необходимым не ограничиваться выработкой «соглашения» имеющихся многочисленных орфографических разногласий, а «облегчить русскому народу обучение грамоте» [цит. по: 7, с. 50]. На заседаниях «конгресса» обсуждался и вопрос о статусе буквы ё, причём было принято решение считать обязательным ставить точки при её написании, зафиксированное в опубликованных протоколах третьего и четвёртого заседаний [7, с. 50].
Тем не менее, в алфавитах, описанных в книгах многих выдающихся лингвистов, в частности А. Х. Востокова (Русская грамматика, 1859), академика Я. К. Грота (Русское правописание, 1867), буквы ё не было. Правда при этом Грот думал и о пополнении алфавита, отмечая: «Буквы и и е получают еще особое назначение с помощью надстрочных знаков (й, ё), при которых они изображают другие звуки и потому в этом виде должны бы также занимать место в азбуке» [цит. по: 21, c. 28].
В некоторых публикациях встречаются утверждения, что букву ё впервые включил в алфавит в 1860-е годы создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даль. Известно, что в 1860 г. он внёс в словарь слова на ё, поместив их после е. Но также известно, что первое 4томное издание словаря вышло в период с 1863 по 1866 год. Следовательно, это было сделано в рукописи. Сам Даль применял букву ё. В Википедии в статье о нём имеется цитата: «Живой народный язык, сберёгший в жизненной свежести дух, который придаёт языку стройность, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи» [8]. Выступая в Обществе любителей российской словесности в Москве 21 апреля 1862 г., он сформулировал требования, принятые в его словаре. Первое из них: «Писать как можно ближе к общепринятому произношению, насколько это дозволяют прочие не менее важные правила, самый обычай» [цит. по: 7, c. 53. Курсив мой – В. О.]. Возможно, именно поэтому в опубликованной в 1863 г. первой части словаря после е имеется только три слова с ё: «Ёхнуть», «Ёчки», «Ещё» [37, c. 467]. Следует также учитывать, что в предисловии к третьему изданию словаря, осуществлённому под редакцией профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ, есть сообщение о том, что Даль в рукописи словаря «вовсе не употреблял букву Ё как знак гласного О после шипящих согласных». Эта орфографическая манера автора словаря (буква О после шипящих вместо Ё) реализована редактором 3-го издания» [7, c. 54]. Так что утверждения о том, что Даль ввёл букву ё в своём опубликованном словаре в алфавит нельзя переоценивать. Пока что достоверно известно лишь, что первым включил в свою неофициальную, составленную для крестьян, «Новую азбуку» Л. Н. Толстой в 1875 г., поставив её на 31 место из 36, между Ѣ (ять) и Э.
Как отмечали исследователи истории буквы ё, «для XIX в. было характерно разнообразие мнений и отсутствие единых орфографических правил» [30, с. 63-64]. К концу XIX – началу XX в. необходимость систематизации и унификации языковых норм была очевидной для учёных лингвистов. Кроме того, учителя России обращались в Академию наук с просьбами освободить подрастающие поколения «хоть от малой части того мусора, которым заваливают путь народного образования» [цит. по: 20]. Проекты упрощения правописания неоднократно обсуждались на орфографических собраниях Петербурга с 1860-х гг. В 1901 г. конкретные предложения были представлены Московским, Казанским, Одесским и другими педагогическими обществами.
В 1904 г. при Императорской академии наук была создана Комиссия по вопросу о русском правописании. В её состав вошли 55 учёных лингвистов, академиков, профессоров университетов, преподавателей других вузов, средних учебных заведений под председательством великого князя Константина Константиновича, внука Николая I, двоюродного брата Александра III, известного поэта, публиковавшегося под псевдонимом, переводчика, музыканта, много сделавшего для развития русской науки в качестве президента Академии. На заседании 12 (25) апреля комиссия приняла решение об упрощении русского правописания и отмене лишних букв русского алфавита. Для обсуждения вопросов, не связанных с исключением букв, комиссия избрала из своего состава Орфографическую подкомиссию. В мае 1904 г. было опубликовано её «Предварительное сообщение», предлагавшее проект нового правописания, в котором были соединены постановление об отмене лишних букв и предложения по изменению орфографии. Проект предлагал:
исключить из алфавита буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное») и ввести вместо них в употребление, соответственно Е, Ф, И;
исключить твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но сохранить в качестве разделительного знака (подъём, адъютант);
писать приставки «из–», «воз–», «раз–», «роз–», «низ–», «без–», «чрез–», «через–» перед согласными и звонкими согласными с «з» (извините, воззвание, низвергать, безвольный, чрезвычайно), заменять «з» буквой «с» перед глухими согласными, в том числе и перед «с» (исправить, воспитать, всхожие семена, расстаться, роспись, ниспосланный, бесполезно, чересполосица, чересседельник);
заменить в родительном и винительном падежах прилагательных и причастий окончания –аго после шипящих на –его (лучшаго → лучшего), во всех остальных случаях –аго заменять на –ого, а –яго на –его (например, новаго → нового, ранняго → раннего), в именительном и винительном падежах множественного числа женского и среднего родов –ыя, –ія – на –ые, –ие (новыя книги → новые);
словоформы женского рода множественного числа «онѣ», «однѣ», «однѣхъ», «однѣмъ», «однѣми» заменить на «они», «одни», «одних», «одним», «одними»;
словоформу родительного падежа единственного числа «ея (нея)» – на «её (неё)».
Из всех этих предложений наиболее значимым не только с точки зрения очищения языка от «излишнего мусора», но и экономически было исключение твёрдого знака на конце слов. Ещё в 1857 г. журнал «Экономический указатель» сообщил своим читателям, что в русском языке 1 твёрдый знак приходился в среднем на 17 других букв алфавита, иными словами, на 17 написанных или печатных страниц – одна страница твёрдых знаков и внутри и в конце слов. Сопоставление этих данных с количеством публикуемых за год страниц и их стоимостью показало, что твёрдый знак «ежегодно стоит русскому народу 11 294 150 рублей» [7, с. 39]. В 1904 г., уже во время подготовки реформы орфографии, декан историкофилологического факультета Императорского Варшавского университета, будущий ректор этого вуза, академик, один из классиков белорусоведения, профессор Е. Ф. Карский в статье, опубликованной в «Русском филологическом вестнике», назвал твёрдый знак раком на хвосте русских слов, пожирающим более 8 процентов времени и бумаги, ежегодно стоящим России более 4 млн. рублей [7, с. 183]. В одной из своих статей российский лингвист Э. К. Лавошникова без указания источника писала о том, что, по подсчётам писателя и филолога Л. В. Успенского, до реформы правописания твёрдый знак занимал примерно 4% объёма текстов и на него ежегодно уходило около 8,5 млн. страниц. На этом основании она считает, что и в наши дни твёрдый знак остаётся «лишней буквой» и предлагает полностью исключить его из российской письменности [15, с. 139 и др.; 16]. Независимо от оценки приведённых данных, методики их расчётов они довольно наглядно указывают на наличие многих и разнообразных связей между языком и состоянием общества.
В орфографическую подкомиссию входили известные сторонники буквы ё, в числе которых были академик Ф. Э. Корш, члены-корреспонденты АН Р. Ф. Брандт, И. А. Бодуэн де Куртенэ. Многие другие их коллеги также были склонны к использованию ё вместо исключаемой буквы Ѣ (ять). Однако, в проект вошла половинчатая формулировка о «желательности, но необязательности буквы ё на письме» [цит. по: 30, с. 71].
В целом проект реформы был неодобрительно встречен «консервативной печатью и частью учёных» [см.: 27]. Но определяющую роль сыграли разногласия разработчиков реформы по вопросам теории. По оценке Ж. В. Леоновой, в центре обсуждения языковедов находились исторический (традиционный), этимологический (морфологический) и фонетический принципы, но единого мнения в определении ведущего принципа выработать не удалось [см.: 18, с. 154 и др.]. Эта проблема остаётся дискуссионной и в современной лингвистике, в учебной литературе по предмету [см., напр.: 11, с. 145-155]. К ней мы ещё вернёмся. По причине сохранения серьёзных разногласий работа подкомиссии затянулась, несколько лет её заседания вообще не собирались. Окончательный проект реформы был подготовлен лишь к лету 1912 г. и опубликован как «Постановление Орфографической подкомиссии», но и он остался лишь проектом. А. Н. Алексахин в цитированной выше статье утверждал, что его не приняло царское правительство [1, с. 34].
Мировая война сместила проблемы языка на периферию общественных интересов, хотя вопросы орфографической реформы обсуждались специалистами на I Всероссийском съезде по вопросам народного образованию (22.12.1913 – 3.01.1914 гг.) и I Всероссийском съезде преподавателей русского языка средней школы (27.12.1916 – 4.01.1917 гг.). После Февральской революции при Академии наук была вновь создана специальная подготовительная Орфографическая комиссия по упорядочению правописания. В совещании 11 (24) мая 1917 г. участвовали члены подготовительной комиссии, Орфографической комиссии 1904 г. (в связи с уходом из жизни в 1914 г. Ф. Ф. Фортунатова её возглавил академик А. А. Шахматов), Отделения русского языка и словесности в разряде изящной словесности, представители учёных и просветительных учреждений, учителя школ.
Основу изменения правописания составил проект реформы, подготовленный орфографической подкомиссией 1912 г., однако некоторые пункты предлагавшихся нововведений в постановление Совещания не вошли. Так, в проекте 1912 г. рекомендовалось исключить мягкий знак после шипящих в конце слов рожь, ходишь, лишь, ночь, печь, вещь, помощь и писать «рож», «ходиш», «лиш» «ноч», «печ», «вещ», «помощ». В другом пункте содержалось предложение передавать звук /о/ под ударением после шипящих буквой о, например, «счот», «чорный», «лжот», «шолк», «шопот» вместо счёт, чёрный, лжёт, шёлк, шёпот. Как видно, в предоктябрьский период проявлялась тенденция к вытеснению буквы ё из употребления.
Предложение об исключении Ъ на конце слов и желательности, но необязательности Ё комиссия приняла единогласно.
Академия наук утвердила «Постановление Совещания по вопросу упрощения русского правописания». Министерство просвещения циркуляром от 17 мая 1917 г. предложило ввести в школах реформированное правописание. Хотя этот документ не имел ранга закона, в школе его восприняли как радостное событие. Но всё больше ощущалась необходимость вывода реформы орфографии за пределы школы, потому что в печати, особенно в повседневной прессе, «реформа прививалась весьма туго» [7, с. 123].
После Октябрьского переворота новая орфография была введена двумя декретами. 23 декабря 1917 г. (5 января 1918 г.) Народный комиссариат просвещения издал Декрет о введении нового правописания, подписанный наркомом А. В. Луначарским и секретарём Д. Лещенко. По признанию самого наркома, этот, как его назвали наблюдатели, декрет-плагиат не имел особого резонанса. Он был обязателен для школы, но не обязателен для печати. Конечно, за два месяца «пролетарская» власть не могла добавить к имеющимся разработкам ничего нового. Концептуально не завершённая реформа была подготовлена не большевиками, а «старорежимными», по советской терминологии, «буржуазными», но учёными лингвистами. 10 октября 1918 г. был опубликован утверждённый Совнаркомом Декрет «О введении новой орфографии», подписанный заместителем наркома просвещения М. Покровским и управляющим делами СНК В. Бонч-Бруевичем. Декрет утвердил новые правила и для школьного обучения, и для всей печати. Основой этого документа послужило не принятое Временным правительством постановление за исключением пункта: “Признать желательным, но не обязательным употребление буквы «ё» (нёс, вёл, всё)”. В первой редакции Декрета от 23 декабря 1917 г. это правило под № 5 ещё было, но в окончательном варианте от 10 октября 1918 г. оно не сохранилось [см.: 29]. Большое влияние на ускорение реформы оказал декрет комиссара печати, пропаганды и агитации в Союзе коммун Северной области В. Володарского, адресованный подведомственным издательствам, который был подписан ещё до второго декрета СНК, поскольку Володарский был убит террористом 20 июня 1918 г. В день подписания своего декрета Володарский собрал большинство отвечающих за типографии людей и заявил им: «Появление каких бы то ни было текстов по старой орфографии будет считаться уступкой контрреволюции, и отсюда будут делаться соответствующие выводы» [цит. по: 7, с. 126; 19, с. 24]. После этого в Петрограде, по крайней мере, таких публикаций больше не было. Определённое значение имели публикация и реализация Постановления Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» от 14 ноября 1918 г. Почему-то в некоторых публикациях неправильно утверждается, что это постановление было издано одновременно с вторым декретом СНК о проведении реформы 10 октября 1918 г. [см., напр.: 9].
Постановление ВСНХ установило жёсткий порядок проведения реформы, включающий прекращение отливки исключённых из алфавита букв, изъятие матриц этих букв из касс ручных наборных машин, обязательную печать всего по новой орфографии и установление штрафа до 10 000 рублей за нарушение постановления. В результате изъятия из печатных машин всех матриц твёрдого знака они, вплоть до 1929 года, заменялись при печати апострофами. Что касается буквы ё, то по словам исследователей её истории, у большевиков она осталась в алфавите, но «не возродилась». Более того, она начала исчезать из русской письменности совсем [30, с. 75], поскольку для изготовления её отливок и матриц для касс наборных и печатных машин материалов, производственных мощностей и других ресурсов в стране не было. Злоключения буквы ё продолжались и в ХХ, и в ХХI веках, причём в решение многих вопросов применения языка оказались вовлечёнными не только значительные массы населения, но и высшие руководители государства, в числе которых оказались и И. В. Сталин и Н. С. Хрущёв.