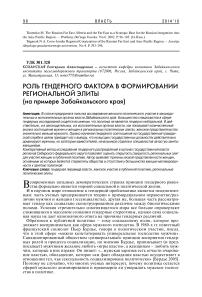Роль гендерного фактора в формировании региональной элиты (на примере Забайкальского края)
Автор: Коханская Екатерина Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 10, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка исследования женского политического участия в законодательных и исполнительных органах власти Забайкальского края. Большинство специалистов в сфере гендерных исследований сходятся во мнении, что политика не является гендерно нейтральной. И действительно, и в законодательных и в исполнительных органах власти, как показывает количественный анализ соотношения мужчин и женщин в региональных политических элитах, женское представительство значительно меньше мужского. Однако изучение гендерного соотношения на государственной гражданской службе в целом приводит нас к выводу, что на высших государственных должностях действительно доминируют мужчины, но категории заместителей, начальников отделов и специалистов зачастую заняты женщинами. Компаративный метод исследования гендерного распределения в органах государственной власти регионов Сибирского федерального округа, позволяет оценить открытость/закрытость региональных элит для участия женщин в публичной политике. Автор выявляет причины низкой представленности женщин, основными из которых являются стереотипы общества и отсутствие у большинства женщин мотивированности к занятию политикой.
Гендерная пирамида власти, женское участие в публичной политике, региональные политические элиты
Короткий адрес: https://sciup.org/170167229
IDR: 170167229
Текст научной статьи Роль гендерного фактора в формировании региональной элиты (на примере Забайкальского края)
В современных западных демократических странах принцип гендерного равенства формально является нормой социальной и политической жизни.
И в научном мире отношение к гендерной проблематике является неоднозначным: часть ученых придерживается теории о примордиальном неравенстве/раз-личии мужчин и женщин (эссенциалисты), другая же, большая часть рассматривает гендер как социально сконструированное различие между биологическими полами. Условия стремительно изменяющегося мира все больше опровергают сложившиеся в массовом сознании гендерные стереотипы, однако сама социальная наука не дает однозначного ответа на причины гендерных различий.
Обратимся к публичной политике – тому социальному полю, которое продолжает восприниматься как сфера мужского господства. В 1980-х гг. известный французский социолог Пьер Бурдье, говоря о политическом участии, писал, что в этой сфере «можно констатировать универсальное господство мужчин». Санкционированный обществом «универсальный» принцип восприятия гендерных ролей и процесса социализации, по мнению Бурдье, приписывает (и предписывает) мужчинам желание любить «игры власти», а женщинам – любить мужчин, которые в них играют. Он пишет: «…мужская харизма есть отчасти очарование властью, обольщение, которое сам факт обладания властью осуществляет в отношении тел, чья сексуальность социализирована политически» [Бурдье 2005]. Поэтому не случайно, что многих ученых интересует, почему политика остается сферой мужского доминирования и правомерно ли утверждать мужское господство в политике.
Таблица 1
|
Законодательный орган |
Женщины |
Мужчины |
|
Дума ХМАО – Югры |
11,4 |
88,5 |
|
Законодательное собрание Владимирской области |
24,3 |
75,6 |
|
Мурманская областная дума |
16,6 |
83,3 |
Соотношение мужчин и женщин в законодательных органах, %
Как показывает анализ состава государственных структур, несмотря на кардинальные перемены, женщины все-таки составляют меньшинство среди лиц, обладающих реальной политической властью. Данное положение хорошо отражает широко используемое в социальных науках понятие «гендерная пирамида власти», описывающее ситуацию, при которой чем больше степень концентрации властных ресурсов, тем выше представительство мужчин в политических структурах, и наоборот, чем менее влиятельной и престижной является должность, тем более вероятно ее занятие женщиной. Женщины чаще встречаются среди государственных служащих [Айвазова 2012], которые выполняют рутинную работу, не требующую креативности и публичности. На сегодняшний день, по оценкам аналитиков, представительство женщин на руководящих постах в органах исполнительной власти в разных странах мира в среднем находится на уровне 8–10%, и лишь в странах северной Европы этот показатель существенно выше, он составляет 25–40%. Что касается нашей страны, то анализ гендерной структуры современной российской власти приводит к неоднозначным выводам.
Общая демократизация российской политики в постсоветский период способствовала тому, что в исполнительной власти стали периодически появляться женщины-министры и даже вице-премьеры. Положительная динамика роста женского представительства наблюдается в органах государственной власти регионов. К примеру, из 85 глав субъектов федерации 3 женщины-губернатора: С.Ю. Орлова (Владимирская обл.); М.В. Ковтун (Мурманская обл.); Н.В. Комарова (Ханты-Мансийский АО). Можно даже говорить об историческом максимуме женщин – глав регионов. Но если обратиться к количественному соотношению женщин и мужчин в составе законодательных и исполнительных органов власти, то мы не увидим корреляции между полом (гендером) главы региона и численностью в этом органе мужчин и женщин. Как видно из табл. 1, в регионах, где главой является женщина, гендерное распределение соответствует общероссийскому уровню.
В Сибирском федеральном округе главами регионов являются исключительно мужчины. Женщины же чаще занимают пост заместителя руководителя региона или председателя правительства. Наибольшее число женщин-заместителей наблюдается в Иркутской и Кемеровской обл. Довольно активно женщины занимают посты министров, по численности здесь лидируют Красноярский край (но они все пока еще и.о.), Иркутская обл. и Республика Хакасия. Самыми распространенными сферами, курируемыми женщинами-министрами, в СФО являются экономика и финансы, образование, социальная политика.
В 2013 г. с избранием нового губернатора Забайкалья К.К. Ильковского в правительстве ЗК среди заместителей губернатора и министров не осталось ни одной женщины. Для понимания причин данного явления необходимо выявить основные характеристики предыдущей и нынешней политической элиты. Закономерно, что смена главы региона зачастую приводит не только к персональным перестановкам во властной структуре, но и изменяет механизмы, каналы рекрутирования и основы внутриэлитной консолидации. Экс-губернатор Забайкальского края (Читинской обл.) Р.Ф. Гениатулин относился к категории политических «долгожителей», т.к. занимал этот пост в течение 17 лет. За столь внушительный срок нахождения во главе региона одного лица не может не сложиться определенная модель элитообразования. По мнению политолога О.В. Гаман-Голутвиной, в подобных
Таблица 2
|
Всего сенаторов, чел. |
Женщины, % |
Мужчины, % |
|
170 |
7 |
92,9 |
Соотношение мужчин и женщин в Совете Федерации РФ
системах основами элитообразования выступают родственные и земляческие отношения, общность социального происхождения. Но доминируют, безусловно, единство политико-экономических интересов и лояльность лидеру, обеспечивающие групповую сплоченность элиты. Характерной чертой исполнительной власти того периода является преобладание так называемых бюрократов – должностных лиц, входящих в состав органов государственной власти и органов местного самоуправления [Гаман-Голутвина 2006]. В правительстве Р.Ф. Гениатулина было три женщины-министра: Г.П. Сыроватка – министр культуры, Р.Н. Каргина – министр труда и демографической политики, Л.И. Гарголло – министр сельского хозяйства. Все они до занятия поста министра занимали различные должности на государственной гражданской службе.
Неожиданное для представителей политической власти назначение К.К. Ильковского временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края, а затем и вполне предсказуемая победа на губернаторских выборах, как мы уже отмечали, изменили облик исполнительной и законодательной власти региона. Стала наблюдаться тенденция к приходу в политику «универсалов» – лиц влиятельных и в экономике, и в политике. К.К. Ильковский и сам имеет большой экономический вес. Весь его карьерный путь связан с энергетической сферой Республики Саха. С 2011 г. он являлся директором ООО «Якутское» и в том же году стал депутатом Государственной думы. Первый вице-премьер А.И. Шеметов также работал в сфере энергетики и имел политический опыт в качестве депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха. Политический курс новой команды направлен на превращение депрессивного региона в экономически привлекательный, а для этого необходимы универсалы. Возможно, именно востребованность профессиональных качеств топ-менеджера и необходимость политического опыта в условиях стремительного экономического развития не позволяют женщинам преодолеть этот двойной барьер. Также исследователи в качестве причины малой представленности женщин в исполнительной власти (имеются в виду высшие должности) рассматривают и то, что власть в регионах опирается не на формальные, а на неформальные ресурсы, которых у мужчин всегда больше, чем у женщин. Именно за вице-губернаторами закреплена функция выстраивания взаимодействий с властью, бизнесом и криминальными структурами региона [Чирикова, Лапина 2009]. Отношения в этом треугольнике начали складываться еще в середине 1990-х гг. Женщинам конкурировать с возможностями мужчин в этой сфере сложно, зато в профессиональных нишах они чувствуют себя вполне уверенно.
И если исполнительная власть по гендерному составу является, как мы выяснили, более мужской, то в законодательной ветви власти представительство женщин на федеральном и региональном уровне стабильно увеличивается. В первую очередь стоит отметить, что в 2011 г. впервые Председателем Совета Федерации стала В.И. Матвиенко. Однако, несмотря на то, что Совет Федерации возглавляет женщина, процент женского представительства в целом оставляет желать лучшего (см. табл. 2).
В составе Государственной думы VI созыва – 64 женщины, что составляет 14,2% общего числа депутатов. В составе предыдущего созыва было практически такое же число женщин – 63 (14% депутатского корпуса). Согласно результатам сравнительного исследования численности женщин в законодательных органах Сибирского федерального округа, Забайкальский край занимает среднее положение. Как видно из данных табл. 3, наименьший процент женщин наблюдается в Законодательном собрании Новосибирской области, а наибольший – в Верховном хурале Республики Тыва.
Таблица 3
Численность мужчин и женщин в законодательных органах СФО *
|
Законодательные органы субъектов РФ СФО |
Всего депутатов, чел. |
Женщины, чел./% |
Мужчины, чел./% |
|
Государственное собрание – Эл Курултай Республики Алтай |
38 |
5/13,1 |
33/86,8 |
|
Алтайское краевое Законодательное собрание |
65 |
9/13,8 |
56/86,1 |
|
Народный хурал Республики Бурятия |
66 |
9/13,6 |
57/86,3 |
|
Законодательное собрание Забайкальского края |
50 |
7/14 |
43/86 |
|
Законодательное собрание Иркутской области |
44 |
7/15,9 |
37/84 |
|
Совет народных депутатов Кемеровской области |
45 |
12/26,6 |
33/73,3 |
|
Законодательное собрание Красноярского края |
50 |
6/12 |
44/88 |
|
Законодательное собрание Новосибирской области |
74 |
2/2,7 |
72/97,2 |
|
Законодательное собрание Омской области |
44 |
3/6,8 |
41/93,1 |
|
Законодательная дума Томской области |
42 |
5/11,9 |
37/88 |
|
Верховный хурал Республики Тыва |
32 |
10/31,2 |
22/68,7 |
|
Верховный совет Республики Хакасия |
51 |
6/11,7 |
45/88,2 |
* Официальные сайты органов законодательной власти субъектов РФ. Доступ: ; ; ; ; , ; ; ; ;
Должность председателя законодательного органа по СФО принадлежит женщинам в трех регионах: Это Председатель Законодательного собрания Забайкальского края Н.Н. Жданова, Председатель Законодательного собрания Иркутской области Л.М. Берлина и Председатель Законодательной думы Томской области О.В. Козловская. Законодательное собрание Забайкальского края II созыва демонстрирует незначительное увеличение числа женщин-депутатов (см. табл. 4).
Из 8 комитетов Законодательного собрания Забайкальского края II созыва возглавляется женщиной только 1 – Комитет по демографической политике, качеству жизни и трудовым отношениям (В.В. Кулиева). Депутаты К.В. Канунникова и Д.Д. Доржиева были в составе Законодательного собрания Забайкальского края I созыва и избирались в обоих случаях по одномандатным избирательным округам, что демонстрирует высокий уровень их электоральной поддержки. В целом в Законодательном собрании Забайкальского края I созыва 3 из 5 женщин были избраны по одномандатным избирательным округам и 2 – по партийным спискам от «Единой России». В составе ЗС II созыва больше женщин, избранных по партийным спискам: 2 – от «Единой России» и 2 – от «ЛДПР» (стоит отметить, что один из мандатов был передан женщине-депутату (Н.Н. Жданова) без участия в выборах. Вероятно, ее фигура была выбрана для укрепления внутриэлитной консолидации политических элит. На наш взгляд, принадлежность большинства женщин-депутатов к партии «Единая Россия» объясняется их склонностью к политическому конформизму.
Немаловажной характеристикой для анализа гендерного представительства в структурах власти является и образование. Обратимся к образовательному уровню женщин – депутатов Законодательного собрания Забайкальского края (см. табл. 5).
Все женщины-депутаты имеют одно высшее образование и более половины из их состава получили второе высшее образование. Женщинам свойственно получение первого образования в области педагогики, медицины и социальных наук. У муж-
Таблица 4
Численность женщин в Законодательном собрании Забайкальского края
I и II созывов, %
|
Законодательное собрание Забайкальского края I созыва |
Законодательное собрание Забайкальского края II созыва |
|
10 |
14 |
Таблица 5
Образовательный уровень женщин – депутатов Законодательного собрания Забайкальского края I и II созывов
А.Е. Чирикова и Н.Ю. Лапина в исследовании женского политического участия выделяют такие барьеры, стоящие на пути избрания женщин в законодательный орган, как высокий уровень конкуренции, слабое представительство женщин в бизнес-элите региона, несформированность каналов продвижения женщин в законодательную власть, социокультурные стереотипы электорального поведения избирателей, слабая активность самих женщин [Чирикова, Лапина 2009]. Сниженное представительство женщин в региональной законодательной власти нередко объясняется гендерными стереотипами избирателей, в т.ч. женщин, которые не готовы голосовать за женщин-политиков. Нежелание допускать женщин во власть со стороны электората некоторые из экспертов склонны интерпретировать как «зависть к чужим успехам» и «ментальные ограничения женщин-избирательниц» [Чирикова, Лапина 2009]. И если мы обратимся к истории женского движения, то увидим, что, к примеру, многие антисуфражистские движения были сформированы именно женщинами.
Итак, по итогам исследования можно сделать вывод, что как на федеральном, так и на региональном уровне подавляющее большинство лидирующих позиций занято мужчинами, что подтверждает концепцию гендерной пирамиды власти. В исполнительной власти, имеющей в нашей стране превосходство над законодательной, для женщин наиболее открыты сферы социальной политики, здравоохранения, образования. В последнее время сюда прибавляются финансовый и сельскохозяйственный сектор. Представительство женщин в законодательной ветви власти несколько больше, чем в исполнительной. По Сибирскому федеральному округу самый высокий процент женщин-депутатов наблюдается в Верховном хурале Республики Тыва, а наименьший – в Законодательном собрании Новосибирской области. Так же как и в исполнительной власти, доля женщин выше в области социальной политики, здравоохранения, образования, финансов. В общем-то, такое положение отражает один из социальных стереотипов, что именно данные области наиболее подходят для женской деятельности, хотя появление женщин в финансово-экономической сфере постепенно изменяет этот стереотип. Маскулинизированность современной российской политики, достигшая максимума благодаря агрессивной внешней политике в 2014 г., вновь инкорпорирует в массовое сознание традиционные ценности патриархального общества, в котором женщинам не к лицу заниматься политикой.
Специалист по региональным элитам А.Е. Чирикова в своих работах прогнозирует три возможных сценария женского участия в публичной политике. Первый сценарий – гендерная сегрегация, согласно которому численность женщин, занимающих политические посты, будет сокращаться. Второй – социальная инерция: в будущем доля женщин, занимающих руководящие позиции во власти, будет относительно невысокой, а попадание или непопадание женщин во власть будет, как и сегодня, определяться волей первого лица. Третий, самый оптимистический сценарий – спираль поступательного развития. Согласно этому сценарию представительство женщин во власти будет нарастать. Сторонники этой точки зрения не исключают, что через 10 лет соотношение женщин и мужчин на высших этажах российской власти будет примерно равным или почти равным [Чирикова 2010].
В Забайкалье благодаря либеральной ориентации нового губернатора после завершения формирования новой элиты, на наш взгляд, можно предположить воплощение третьего сценария (спираль поступательного развития). Приоритет экономического развития региона управления и задача создать благоприятный инвестиционный климат не оставляют места гендерным стереотипам. Инновационный тип управления благоприятствует востребованности профессиональных качеств, а не выслуге лет и лояльности лидеру. Женщинам придется менять «традиционные» сферы деятельности в политике на новые, связанные с топ-менеджментом и крупным бизнесом, инвестициями. Увеличение числа женщин во власти породит и новую проблему – качественное изменение политики. Изменится ли она от большего присутствия женщин? Ведь представление о том, что женщины способны «облагородить» политическую сферу просто в силу того, что феминность имманентно не несет в себе негативное содержание, в действительности весьма далеко от истины.
Список литературы Роль гендерного фактора в формировании региональной элиты (на примере Забайкальского края)
- Айвазова С.Г. 2012. Гендерные особенности политического поведения россиян в контексте избирательного цикла парламентских и президентских выборов 2011-2012 гг.//Женщина в российском обществе. № 3. С. 3-11.
- Бурдье П. 2005. Социальное пространство. Поля и практики. СПб.: Алетейя. 576 с.
- Гаман-Голутвина О.В. 2006. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. М.: РОСПЭН. 448 с.
- Чирикова А.Е., Лапина Н.Ю. 2009. Женщина на высших этажах власти. Российские практики и французский опыт. М.: Институт социологии РАН. 72 с.
- Чирикова А.Е. 2010. Региональные элиты России. М.: Аспект Пресс. 271 с.