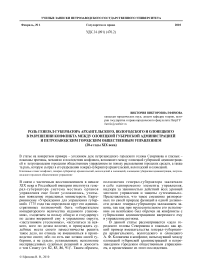Роль генерал-губернатора архангельского, вологодского и олонецкого в разрешении конфликта между Олонецкой губернской администрацией и Петрозаводским городским общественным управлением (20-е годы XIX века)
Автор: Ефимова Виктория Викторовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Государство и право
Статья в выпуске: 1 (106), 2010 года.
Бесплатный доступ
Конфликт, генерал-губернатор архангельский, вологодский и олонецкий, олонецкая губернская администрация, петрозаводское городское общественное управление
Короткий адрес: https://sciup.org/14749667
IDR: 14749667
Текст статьи Роль генерал-губернатора архангельского, вологодского и олонецкого в разрешении конфликта между Олонецкой губернской администрацией и Петрозаводским городским общественным управлением (20-е годы XIX века)
В связи с частичным восстановлением в начале XIX века в Российской империи института генерал-губернатора система местных органов управления еще более усложнилась, учитывая появление отраслевых министерств. Екатерининские «Учреждения для управления губерний» 1775 года так определяли круг его административных полномочий: быть «оберегателем императорского величества изданного узаконения», «ходатаем за пользу общую и государеву» по делам вверенной ему в управление округи, «заступником утесненных», «вступаться за всякого, кого по делам волочат, и принуждать судебные места своего наместничества решить такое дело, но отнюдь не вмешиваться в производство оного; ибо он есть яко хозяин своей губернии, а не судья», останавливать исполнение несправедливых судебных решений и доносить о том Сенату (ст. 82, 85, 86, 91)1. Таким образом, полномочия генерал-губернатора заключали в себе одновременно элементы управления, надзора за законностью действий всех уровней местного управления и защиты «утесненных». Представляется, что такое смешение разнородных по своей природе функций в одной должности делало генерал-губернатора заложником закона, так как при неукоснительном его исполнении он неизбежно был обречен на конфликты с губернскими администрациями вверенного ему в управление региона.
В данной статье рассматривается «дело городского головы Северикова и гласных» как яркий пример вмешательства генерал-губернатора архангельского, вологодского и олонецкого А. Ф. Клокачева в конфликт, вспыхнувший между олонецкой губернской администрацией и петрозаводским городским общественным управлением, и проистекшие из этого последствия.
Когда в июне 1820 года вновь назначенный генерал-губернатор архангельский, вологодский и олонецкий А. Ф. Клокачев впервые посетил Петрозаводск, на него обрушился поток жалоб от купцов и мещан на неуплату им Петрозаводской городской думой прежних долгов2. Генерал-губернатор приказал все прошения немедленно удовлетворить, поэтому гласные Думы были вынуждены приступить к погашению этих долгов3. Однако положение с долгами и на конец 1820 года было удручающим: их общая сумма составляла 34619 руб., среди них накопилось с 1803 по 1817 год 9486 руб., с 1817 по 26 февраля 1820 года – 16925 руб. (при городском голове С. Т. Жданове), в 1820 году – 8206 руб. (при городском голове М. И. Пухкоеве)4.
Откуда же у города могли появиться такие долги? Во многом они были запрограммированы самим законодателем. Так, например, при Александре I правительство обязало с 1808 года лечить в устроенных на средства городов госпиталях или больницах военнослужащих (если таковые не были устроены там от Военного ведомства), а в 1815 году – выделять квартиры под постой не только нижним воинским чинам, но и изувеченным на последней войне штаб- и обер-офицерам до определения их на службу5. Выполнение этих распоряжений заставило петрозаводское городское самоуправление накопить свои самые крупные долги. Во-первых, город не получил от государства 17104 руб., положенные ему за содержание военнослужащих в своей больнице в 1811–1816 годах. Во-вторых, из-за ветхости больницы город был вынужден искать для нее новое помещение, в связи с чем в 1819 году олонецкий губернатор В. Ф. Мертенс предложил бывшему тогда городским головой купцу Пухкоеву приобрести дом у купца Истомина, который он продавал за 3 тыс. руб. Пукхоев при заключении договора с Истоминым сумел понизить стоимость покупки до 2 тыс. руб. и уплатил задаток в размере 166 руб., а остальную сумму обязался внести в мае 1820 года, но не сделал этого, хотя и имел такую возможность6. Законный представитель Истомина горный офицер Бутенев 19 декабря 1820 года обратился к генерал-губернатору Клокачеву с жалобой на Думу о неисполнении обязательства. Последний предписал Думе удовлетворить и это требование7.
Не лучше обстояло дело с военным постоем. Еще в 1818 году городской голова Жданов жаловался олонецкому губернатору В. Ф. Мертенсу об «ощутительной тягости в несении квартирной повинности, воинскими чинами внутренней стражи тамошнего Батальона занимаемых»8. Олонецкая губернская администрация эту проблему понимала, но собственными средствами разрешить не могла. 26 апреля 1820 года Мертенс представил генерал-губернатору Клокачеву доклад о необходимости «облегчения петрозаводским гражданам в содержании воинского постоя». Клокачев во время своего личного пребы- вания в Петрозаводске 17 июня 1820 года предложил губернатору подумать на заседании Комитета о земских повинностях, о возможности выстроить в городе за счет сбора со всех жителей губернии казармы для губернского гарнизонного батальона (по примеру Архангельска). 24 декабря он одобрил предложение Олонецкого губернского правления о возложении постойной повинности, помимо городских обывателей (по справке правления, они имели в городе всего 300 домов и поэтому на каждый дом приходилось от 2 до 9 человек гарнизона!), на живущих в особой части города – Голиках – заводских мастеровых и вышел с соответствующим представлением в пра-вительство9.
Другим, не менее тяжким расходом для Петрозаводска была полицейская повинность, которая еще в 1797–1798 годах была возложена Павлом I на плечи городских обществ10. Генерал-губернатор Клокачев удостоверился в этом, когда получил в конце 1820 года от Олонецкого губернского правления общие сведения о состоянии полиции и пожарной части в городах Олонецкой губернии. Помимо этого Клокачев усмотрел, что губернская администрация даже не приступала к каким-либо распоряжениям по сделанному министром внутренних дел еще 28 марта 1818 года предложению о составлении в каждом городе «нового Положения о полиции и способах умножения городских доходов». В силу этого 30 декабря 1820 года он предписал губернатору Мертенсу «приступить немедленно» к его исполнению, но прежде представления этого положения министру – «сообщить ему»11.
В конце декабря 1820 года в Петрозаводске состоялись выборы на городские должности на очередное 3-летие (1821–1823 гг.), в том числе была переизбрана и Дума, которая стала состоять из гласных Г. Амозова, Ф. Мартынова, Т. Иванова и городского головы купца С. Северикова, который и был утвержден 20 декабря генерал-губернатором в этой должности как старший кандидат после отказа по болезни купца Костина12. В тот же день состоялось еще одно собрание городского общества, которое было посвящено разрешению ситуации с долгами (в том числе купцу Истомину). В результате было принято решение: «…заведенное дело об учетах (с городским головой Ждановым и служившими вместе с ним гласными. – В. Е.) оставить без всякого на то отыскания» и просить генерал-губернатора это дело «остановить». Генерал-губернатор препроводил приговор Олонецкому губернскому правлению с предписанием «рассмотреть и поступить по законам». Последнее на своем заседании 29 декабря утвердило приговор, но, представляя его генерал-губернатору, обратило его внимание на произошедший раскол внутри городского общества по поводу того, на кого должна падать ответственность по уплате долгов, так как приговор подписали только 67 человек (в начале 1820-х годов петрозаводское городское собрание состояло примерно из 80 человек). В своем ответе в начале января 1821 года А. Ф. Клокачев предложил прекратить «несогласие» в обществе13.
Для исполнения данных в 1820 году генерал-губернатором А. Ф. Клокачевым в отношении города предписаний олонецкая губернская администрация и петрозаводское городское самоуправление приняли следующие меры. В октябре 1820 года Комитетом о земских повинностях был представлен генерал-губернатору проект Положения о земских повинностях по Олонецкой губернии на новое 3-летие (1821–1823 гг.), включавший в себя и сбор на строительство казарм в Петрозаводске. Положение было передано им министру финансов и утверждено императором 5 мая 1821 года14.
В мае – июне 1821 года Петрозаводская дума представила прямо генерал-губернатору рапорты, в которых предлагала в целях «улучшения» городских доходов: 1) ввести в пользу городской казны сбор за камень с Александровского завода, 2) перенести Шунгскую ярмарку в Петрозаводск, 3) включить разночинцев, имеющих дома в Петрозаводске, наравне с гражданами в осуществление полицейской повинности, 4) возбудить ходатайство о возврате городу неполученных в 1811–1816 годах за лечение нижних воинских чинов в городском лазарете 17140 руб.15 Все эти представления Думы генерал-губернатор предложил рассмотреть Олонецкому губернскому правлению на предмет законности и целесообразности. В результате представленных от него сведений А. Ф. Клокачев: 1) отказался войти в правительство с новым представлением о переносе ярмарки, так как еще в 1818 и 1819 годах городской голова Жданов уже обращался с подобными ходатайствами в правительство, которое их отклонило16; 2) предложил правлению войти в переписку с надлежащей правительственной инстанцией о возврате городу 17140 руб.; 3) внес министру внутренних дел ходатайство о разрешении взимать в пользу городской казны сбор за камень17.
30 августа 1821 года губернатор Мертенс представил генерал-губернатору составленное 31 июля совместно с городским головой С. Се-вериковым и депутатами от города «Положение об устройстве полиции в г. Петрозаводске». Из приложенных к Положению ведомостей о городских доходах и расходах было видно, что все собственные доходы г. Петрозаводска в 1821 году составляли 7528 руб. и формировались за счет отдачи в аренду городских выгонных земель, общественных амбаров, пристани, важни и лавок. Однако все эти деньги, как указывали депутаты, тратятся на починку общественных зданий и другие расходы, обозначенные в ст. 152 Городового положения18. В свою очередь, все расходы Думы составляли 27850 руб. (в том числе только воинская повинность составляла около 20 тыс. руб.!). Дефицит покрывался добровольными складками, допускаемыми на осно- вании ст. 42 Городового положения. В силу этого депутаты справедливо полагали, что из-за крайней бедности жителей нет реальных возможностей увеличить доходную часть городского бюджета, а значит, и улучшить устройство полиции (прежде всего обсуждалась возможность открытия в Петрозаводске 2-й полицейской части). Все доходы, получаемые от постоя, объясняли депутаты, шли на содержание батальонных помещений и городского лазарета. Нельзя было увеличить и доходность городских земель «из-за несогласия желающих брать их в аренду по контрактам с залогами за неимением что заложить по собственной несостоятельности». Вопрос же о возможности взимать в пользу города сбор за камень с Александровского завода находился на разрешении Сената, а «с обывателей его ожидать не приходилось», они в таком случае, как считали депутаты, просто откажутся брать камень под фундамент для своих домов. И все же в заключение, несмотря на недостаток доходов, депутатами было предложено, «но не для устройства полиции, а для улучшения пожарной части», ввести поземельный и трубочистный сбор, а саму полицию оставить «как прежде». Вторую полицейскую часть не представлялось целесообразным иметь еще и потому, что за порядок в той части города, где жили заводские служители и рабочие, отвечала особая горная полиция.
Впрочем, 30 сентября 1821 года Клокачев вернул это Положение обратно, предложив только что назначенному на должность олонецкого губернатора А. И. Рыхлевскому «войти в новое соображение». Однако и он вслед за прежним губернатором Мертенсом, обдумав 14 апреля 1822 года ситуацию с тем же составом городских представителей, писал 17 апреля генерал-губернатору, что не нашел «никакой возможности… и других средств к улучшению, кроме казенных». Новым в данном Положении было только то, что предлагались дополнительные расходы по полицейской части, а именно: устройство нового дома для помещения в нем полиции и пожарных инструментов, а также замена исполняющих в порядке личной повинности граждан должностей частного пристава, 3 квартальных надзирателей и десятских военнослужащими внутренней стражи. Необходимость такой замены объяснялась так: граждане уклоняются от служения на этих должностях, предпочитая нанимать вместо себя других лиц, как правило, из бедных, «не совсем надежного поведения… и даже с телесными недостатками». 26 апреля 1822 года А. Ф. Клокачев передал это Положение на усмотрение министра внутренних дел19.
Из всех возбужденных перед правительством ходатайств, направленных на улучшение финансового положения города, было быстро удовлетворено (помимо упомянутого выше сбора со всех жителей Олонецкой губернии с 1821 года на строительство казарм в Петрозаводске) в декабре 1821 года министром внутренних дел лишь представление А. Ф. Клокачева о привлечении заводской части города к участию в несении постойной повинности20.
Но пока все остальные ходатайства ждали своего разрешения в высших инстанциях (см. примеч. 14 и 17), у нового губернатора А. И. Рых-левского и городского головы С. П. Северикова разладились отношения. По-видимому, не последнюю роль в этом сыграл, как будет показано ниже, весьма независимый характер Северикова – одного из самых состоятельных на тот момент в Петрозаводске купца. Не вызывало доверия у губернатора и то, что городской голова был из семьи староверов21. С другой стороны, и сам губернатор Рыхлевский, судя по стилю его управления, был достаточно жестким и бескомпромиссным человеком, принявшимся в целях наведения порядка весьма активно штрафовать и отстранять от службы нерадивых чиновников (см. об этом подробнее: [3; 315]). Конфликт был также осложнен расколом внутри городского общества по поводу того, на кого из его членов должна быть возложена уплата прежних долгов, а также действиями губернского чиновничества, явно не упускавшего любую возможность навредить столь ретивому губернатору22.
История конфликта, по мнению олонецкой губернской администрации, сводилась к следующему. Петрозаводская дума в конце 1821 года представила на утверждение губернатору Рых-левскому общественный приговор о предстоящих расходах на 1822 год и ведомость об издержках за 1821 год. Губернатор, усмотрев из них, что в числе прочих статей Думою предположено на погашение прежних долгов 2 тыс. руб. и что в 1821 году в счет погашения этих же долгов Думою самовольно, без согласия общества и утверждения губернатора Мертенса, было уплачено сверх 5000 руб. еще 5514, в то время как остались неудовлетворенными разные статьи на сумму 11520 руб., 14 февраля 1822 года потребовал от Думы предоставить ему сведения о долгах. Дума, указывая в ответ, что на данный момент в счет всех накопленных к 1821 году долгов в размере 34609 руб. уже уплачено 22255 руб. и осталось к 1822 году уплатить еще 12363 руб., писала, что платеж прежних долгов производится по приговору 20 декабря 1820 года, утвержденному Олонецким губернским правлением. Губернатор, «сообразив» это донесение с хранившимся в правлении «делом о долгах Петрозаводской думы» и указами Сената от 14 июня 1816 года, 21 сентября 1817 года и 12 октября 1821 года23 и находя со своей стороны, что старые долги обязаны заплатить или члены Думы, которые незаконно их сделали, или те граждане, которые согласились 20 декабря 1820 года прекратить расчеты с городским головою Ждановым и гласными, 28 февраля 1822 года указал Думе, что не может утвердить предположенные на 1822 год к уплате долга 2 тыс. руб. Он объяснял это так: «…ибо за вышеобозначенными уза- конениями градское общество не обязано платить, но, желая удержать на будущее время Думу от подобных самовольных расходов общественных денег, чрез что убыток обществу более 30 тысяч рублей», и предписал, чтобы «предположенные примерно» в размере 4182 руб. расходы (в основном это были расходы, предназначенные на ремонт городских общественных зданий), «расходовались не иначе, как по предварительному согласию губернатора». Однако о данном распоряжении губернатора правление представило генерал-губернатору лишь 24 апреля24.
16 мая 1822 года по требованию Олонецкого губернского правления Петрозаводская дума собрала собрание городского общества, которое приняло приговор, угодный администрации, то есть о принятии долгов всем обществом на себя, но подписали его опять же не все члены общества. Приехав в июне 1822 года в Петрозаводск, генерал-губернатор А. Ф. Клокачев вновь оказался в эпицентре конфликта: 16 июня ему были поданы жалобы от двух мещан о неуплате им Думою прежних долгов и рапорт самой Думы. В нем Дума, представляя приговор от 16 мая 1822 года, писала, что считает его сделанным под давлением начальства и несогласным с решением общества от 20 декабря 1820 года. Генерал-губернатор, сопоставив меморию правления от 24 апреля с данным рапортом Думы, 17 июня предложил правлению следующее: так как оно уже утвердило постановление Думы от 20 декабря 1820 года, то по силе ст. 130 «Учреждения для губерний» его отменить уже не может, и поэтому положенные обществом 2 тыс. руб. на уплату в 1822 году прежних долгов «не должны уже быть изъяты из градских расходов», но собирать их следует только с тех граждан, которые подписали приговор в конце 1820 года. Дума, по-видимому, ободренная таким предписанием генерал-губернатора, 21 июня представила ему еще один рапорт, в котором просила утвердить приговор общества о расходах на 1822 год. В своем предложении от 24 июня генерал-губернатор предложил губернатору «уважить» этот рапорт Думы25.
Несомненно, что такие действия Думы – в обход губернской администрации – только усугубили конфликт между ними. Однако выступить открыто против генерал-губернатора во время его нахождения в городе губернское начальство не посмело. Лишь после его отъезда оно предприняло известный в административной практике ход: попыталось привлечь членов строптивой Думы к уголовной ответственности. Так, уже 4 сентября 1822 года Олонецкое губернское правление представило к генерал-губернатору меморию, в которой просило разрешить предать суду петрозаводского голову Северикова за то, что он, воспользовавшись своим служебным положением, получил место под строительство лесопильной мельницы с плотиною на р. Лососинке ниже Александровского завода за плату 50 руб. в год. В обоснование своего решения правление привело следующие аргументы: 1) в 1795 году два петрозаводских купца уже просили дать позволение выстроить на том же месте пильную мельницу, но Берг-коллегия предписала горной экспедиции Олонецкой казенной палаты место это купцам не отводить и, более того, донести, «кому еще из партикулярных людей отданы казенные земли»; 2) Дума не имела права отдавать это место без ограничения срока договора, как это предписывается законом; 3) такая отдача обнаруживает «совершеннейшее корыстолюбие Северикова», так как «был он в этом деле не простым лицом, а городским головою» (прошение же он подписал, подчеркивало правление, как простой купец) и должен был, «как пекущийся о пользе городских доходов, объявить торги, и тогда сумма, вероятно, за аренду была бы больше», нежели 50 руб. в год. В результате правление отменило решение о выделении Северикову участка «яко совершенно несообразное с надлежащим порядком по существующим узаконениям», а его поступок предположило предать суждению уголовной палаты. Однако генерал-губернатор в своем ответе правлению от 14 сентября, признавая факт неправильных действий Думы в части непроведения торгов на место, отмечал, что «сие Градскою Думой, а не одним городским головою упущено и как из сего не произошло еще никакого ущербу, а тем паче вреда», поэтому он не находит нужным предавать Думу суду, но следует «подтвердить» ей, «дабы она впредь сама собою никаких мест… не отводила». Правление вынуждено было исполнить это распоряжение26.
Но с этого момента для Северикова наступили тяжелые дни. Олонецкое губернское правление отказало ему в выдаче паспорта для отлучки на Шунгскую ярмарку, ссылаясь на то, что он состоит под следствием по делу о неправильно взысканных с мещанина Федорова деньгах, а согласно распоряжению самого генерал-губернатора А. Ф . Клокачева от 7 декабря 1820 года, запрещалось выдавать паспорта тем, кто находится под следствием или судом. Севериков обжаловал это решение правления генерал-губернатору, прося разрешить ему отлучку из города по торговым делам. 21 сентября 1822 года А. Ф. Клокачев предложил правлению дать Севери-кову такой отпуск, «чтоб не расстроились его дела», несмотря на его причастность к «делу Федорова». Однако правление не спешило исполнять это предложение, настаивая в рапорте А. Ф. Клокаче-ву на своей правоте. Поэтому 12 октября генерал-губернатор был вынужден еще раз предписать правлению «не останавливаться» с приведением в исполнение его предложения от 14 сентября. Но и после этого паспорт Северикову не был выдан, так как против него были выдвинуты новые обвинения.
29 сентября 1822 года Олонецкое губернское правление представило А. Ф. Клокачеву свои рассуждения на его предложение от 17 июня этого же года. В частности, в них указывалось, что, рассмотрев постановление Думы от 20 декабря 1820 года, правление нашло, что этот при- говор «состоит только в том, что заведенное дело о возникших неудовольствиях по учетам бывшего городского головы Жданова и гласных Думы оставлен обществом без всякого на то отыскания, что и утвердило правление, но чтобы платеж долгов прежними присутствующими сделанный принят был бы обществом на себя, о том в приговоре нет». Далее правление вновь акцентировало внимание на том, что данный приговор подписали только 67 человек и среди них были даже те, кто допустил эти долги, то есть городской голова Жданов и служившие вместе с ним гласные, а это противоречит манифесту от 21 апреля 1787 года (нельзя быть судьей в своем деле), и что Дума не имела права допускать по силе ст. 170 Городового положения. В заключение правление обращало внимание генерал-губернатора еще на одно обстоятельство – Дума сделала ему ложное донесение, указав в нем, что якобы приговор от 20 декабря 1820 года принят целым обществом. Однако в своем ответе от 13 октября 1822 года генерал-губернатор распорядился, чтобы правление предложило Петрозаводской думе при производстве на следующее 3-летие городских общественных выборов сделать новое положение относительно учета прежних долгов, допустив присутствие при этом даже бывших городских голов Жданова и Пухкоева и служивших вместе с ними гласных, и затем представить это положение в правление, которое со своим мнением передаст его к нему27.
Тогда 26 октября 1822 года Олонецкое губернское правление представило А. Ф. Клокачеву сразу 3 представления о привлечении членов Петрозаводской думы во главе с Севериковым к суду: в первом – за то, что они употребили в этом году на починку общественных зданий до 600 руб., не испросив на это особого разрешения у губернатора; во втором – за якобы противозаконное назначение в должность десятских купеческого сына Киннаева и заводского мастерового Дубинкина, а также за ложный ответ Думы на запрос правления о том, что это назначение произошло по приговору градского общества, которого на самом деле, как выяснилось в ходе специально проведенного правлением исследования, не было; в третьем – за якобы излишне взысканные с мещанина Федорова недоимочные деньги. Во всех трех случаях генерал-губернатор в своих предложениях от 10 ноября 1822 года отказался сделать это. По первому делу он считал, что «в употреблении столь малозначительной суммы на поправку общественных зданий… никакого злоупотребления не было» и что, согласно ст. 152 и 167 Городового положения, Дума может делать такие издержки, и впоследствии, если общество усмотрит, что «деньги эти были израсходованы не по назначению, то и само… может сделать положение о взыскании с членов денег». По второму делу А. Ф. Клокачев писал, что Дума имеет право на основании ст. 10 Городового положения и указа Сената от 14 мая 1799 года привлекать к служ- бе десятскими указанных лиц. Однако во избежание повторов таких случаев Клокачев предложил на будущее время делать в конце каждого года в особом комитете, состоящем из городничего, городского головы и депутатов от дворян, чиновников и разночинцев, имеющих свои дома в городе, «общее положение о полицейских повинностях, как денежных, так и натурою», и вносить его на утверждение к нему. Сверх того он предписал правлению спросить у обывателей, «не согласятся ли они, как в Архангельске и Вологде, вместо ныне назначаемых десятских натурою, положить на содержание оных необходимую по раскладке сумму, тогда бы можно было употреблять от внутренней стражи инвалидов для отправления в десятские». Тот факт, что Дума отказалась выполнить распоряжение правления от 7 ноября об освобождении Киннаева и Дубинкина от повинности, сославшись на то, что сделано это приговором самого градского общества, Клокачев проигнорировал, указав правлению, что оно только утруждает его «излишнею перепискою». По третьему же делу – «о излишне взысканных с мещанина Федорова недоимочных денег» – Клокачев отвечал, что, получив от Думы справку по этому делу и сопоставив ее с представленными ему от губернского правления в ходе произведенного им следствия доказательствами вины членов Думы, считает их «не ясными», к тому же взыскание проходило еще при городском голове Жданове. В конце своего предложения он ставил особо на вид правления, что «генерал-губернатор не судья, но оберегатель законов… и защитник утесненных и долженствует вступаться за всякого, кого по делам волочат», и поэтому вновь предписывал ему «не удерживать более Северикова под предлогом других дел» и выдать ему паспорт28.
Все эти предписания генерал-губернатора правление вынуждено было исполнить (в том числе выдать паспорт), но при этом оспорило некоторые из них в Сенате или министру внутренних дел. В частности, это был предложенный А. Ф. Клокачевым способ разрешить дело о прекращении счетов с городским головою Ждановым и гласными, а также приказание «о принуждении Киннаева и Дубинкина к исправлению должности десятского». Обратим внимание, что первое из них было оспорено на основании весьма редко применяемой на практике ст. 103 «Учреждений о губерниях»29, а второе – по совокупности оснований. Из конкретного случая, почему именно этих лиц нельзя привлекать к должности десятского30, правление выводило общие причины своего обращения в высшие инстанции, а именно: чтобы избежать впоследствии «могущих возникнуть в подобных случаях жалоб» в отсутствие «на сию ситуацию никакого ясного закона, коим бы велено было подобного рода людей принуждать к отправлению наймом» этой повинности, а также «чтоб на будущее время не могло правление попасть от высшего начальства в неудовольствие и ответственность»31.
-
18 ноября 1822 года губернатор Рыхлевский предписал петрозаводскому обществу сделать новое положение об уплате прежних долгов, так как не мог утвердить приговор от 16 мая 1822 года, сделанный в нарушение указов Сената (см. примеч. 23); 2 декабря приказал представить ему в течение 3 дней ведомость о всех недоимках, следующих ко взысканию в городской доход; 12 декабря – об уплате долга купцу Истомину из остатков суммы (4182 руб.) и производстве общего учета всех расходов Думы за истекшее трехлетие32.
Однако, по мнению администрации, все эти распоряжения губернатора во время проведения городских выборов – 26 декабря 1822 года – остались невыслушанными, в силу чего вицегубернатор, заменивший губернатора на время его отсутствия по болезни, предложил Думе 27 декабря учинить приговор по данным распоряжениям губернатора и произвести денежный учет. Однако сделано это было, как отмечали позже на следствии гласные, «весьма обидным» для городского общества способом – повестки для явки в собрание были разосланы от имени городничего, а не Думы, как обычно. 28 декабря 1822 года городское общество все-таки собралось и сделало приговор, представленный 4 января 1823 года вице-губернатору. Последний, увидев из приговора, что: 1) произошло увеличение расходов по некоторым статьям по сравнению с прошлым годом (на содержание магистрата, Думы и сиротского суда, отопление и освещение гаубвахты, пожарные инструменты), 2) назначено вновь собрать с общества на уплату купцу Истомину 1931 руб., 3) общество не желает делать учет, так как не сомневается в честности городского головы Северикова и гласных, потребовал дать ему на это объяснения.
-
8 января уже новый состав Думы объяснял ему, что: 1) увеличение суммы по некоторым статьям произошло оттого, что в прошедшем 1822 году выделенных денег на таковые расходы не хватило и поэтому пришлось заимствовать из прочих статей, 2) общество решило во второй раз собрать деньги купцу Истомину, так как собранные ему в 1820 году деньги были потрачены на уплату долгов другим лицам, 3) общество, слушав в числе 80 человек отчет городского головы, «не имело подозрений в злоупотреблениях и составило приговор, что не желает учитывать прежний состав Думы».
-
9 января вице-губернатор, не доверяя этим объяснениям Думы, потребовал от нее представить ему подлинный приговор от 28 декабря 1822 года. В ответ Дума представила только копию, указав, что подлинник должен храниться при градской Думе. Тогда вице-губернатор распорядился, чтобы правление немедленно вошло в рассмотрение всех подобных действий Петрозаводской думы. В результате 23 января 1823 года правление постановило: 1) приговор, составленный 28 декабря 1822 года на основании ст. 37, 38
и 154 Городового положения, уничтожить, наложив на граждан, его подписавших, пеню в 200 руб., 2) выбрать из среды городского общества 5 учетчиков для обревизования расходов Думы, 3) действия членов Думы – городского головы Северикова и гласных Амозова, Мартынова и Иванова, которые, как считало правление, «до этого по одному только снисхождению генерал-губернатора были от суда оставляемы», представить на рассмотрение суда как оказавших «явное неповиновение и невнимательность в исполнении предписаний губернатора» (имелись в виду предписания губернатора Рыхлевского от 18 ноября, 2 и 12 декабря 1822 года), а также за самовольное израсходование денег «не на те предметы», как призналась сама Дума в рапорте от 8 января, в том числе из суммы 4182 руб., не по предложению губернатора от 28 февраля 1822 года33. Совершенно очевидно, что такая эскалация конфликта, который по мере возможности гасил генерал-губернатор Клокачев, стала возможна только после его смерти 2 января 1823 года34.
14 февраля 1823 года в губернском правлении рассматривалось предложение губернатора Рыхлевского в связи с поступившей к нему очередной жалобой от доверенного купца Истомина инженера Бутенева. В ней он писал, что уже неоднократно обращался в Думу с просьбой расплатиться за дом Истомина, но и поныне она не удовлетворена, а прошло уже 3 года, поэтому он просил губернатора либо взыскать с Думы данные деньги, либо освободить дом из-под больницы и заплатить начиная с 28 февраля 1820 года по 300 руб. за каждый год неустойки. Жалоба переполнила чашу терпения губернатора, и он предложил правлению немедленно предписать градскому обществу сделать учет Думе. Последнее своим журнальным постановлением решило: 1) «чтоб не могло общество лишиться столь выгодной для себя покупки дома», деньги взыскать с городского головы Северикова и гласных Г. Амозова, Ф. Мартынова и Т. Иванова «как совершенно виновных в самовольном израсходовании общественных денег не на те предметы, какие были назначены и утверждены губернатором»; 2) взыскание в пользу Истомина произвести петрозаводскому городничему, а если денег не будет, то описать их имения и опись представить в правление35.
16 февраля 1823 года городское общество вынуждено было вновь собраться и выбрать 5 человек для учета всех расходов и доходов, сделанных в 1820–1823 годах при городских головах Пухкоеве и Северикове, но подписали данный приговор только 42 человека36. В этот же день новый состав Думы во главе с городским головою Костиным, встав на защиту прежнего состава Думы, в своем рапорте губернскому правлению, возлагая всю вину в неуплате за дом Истомина на городского голову Пухкоева, просил не подвергать их ответственности, а взыскать деньги с Пухкоева или позволить покрыть долг за счет недоимки. Однако правление, рассмотрев этот рапорт только 18 апреля, решило «не снимать с Северикова и гласных ответственности», так как они своевременно не приняли постановления о виновности Пухкоева и израсходовали деньги, в противность предложению губернатора от 12 декабря 1822 года, не на уплату за дом Истомина, а на другие предметы. Но при этом правление не забыло своим указом от 15 февраля предписать городничему произвести опись имущества Северикова и гласных, что он и сделал, представив при рапорте от 17 февраля как саму опись имения Северикова и гласных, так и отобранный у Северикова паспорт37.
Однако Севериков решил жаловаться министру внутренних дел. В жалобе он писал, что губернского начальство «вовлекло» его «по одиночеству моему в совершенную запутанность при устройстве коммерческих моих дел без всяких уважительных причин». Далее он подробно излагал всю историю его гонений начиная с «дела о мельнице». Генерал-губернатор Клокачев выступал в жалобе в роли защитника Северико-ва, так как только известие о смерти последнего, замечал купец, «вновь ввергло его в самое постыднейшее состояние для доброго гражданина, служившего по выбору градского общества городскою головою». Севериков ставил под сомнение законность действий прежде всего губернатора Рыхлевского, допуская по отношению к нему достаточно жесткие обороты речи, например: если Дума и расходовала деньги «не на те предметы», то «сие последовало потому, что гражданский губернатор уменьшил сумму на 1822 г. на содержание магистрата, сиротского и словесного судов и ее не хватило, поэтому и принуждена была Дума заимствовать их из других статей, но без корыстолюбия, а в целях общей экономии, чтоб обойтись без общего сбора, неужели за это следует предавать суду? и не клонится все сие со стороны губернского начальства к единой цели угнетения нашей участи?»; если Дума и израсходовала на поправку общественных зданий и дорог 600 руб. «без ис-прошения на то согласия губернатора, то в сем она основывалась на ст. 152 Городового положения… а в ней не сказано, что на такие расходы надо испрашивать разрешения у губернатора; губернатор «не имел право предписывать Думе расходовать деньги помимо общественного приговора, сам собою располагая суммою» на отмежевание городу лесной дачи и поправку тюрьмы, а таковых его распоряжений он – Севе-риков – «ослушаться не смел»; у губернатора нет права «вмешиваться в общественные дела и настоятельно градское общество понуждать против воли оного к учету», отчего общество «из страха ради попасть под сугубейший гнев и злость губернатора вынуждено было в феврале 1823 г. избрать 5 человек учетчиков…».
Но особо «безвинным истязанием» для себя Севериков считал то, как прошло описание его имущества в счет погашения долга купцу Истомину. Он пишет, что 15 февраля 1823 года городничий Григоров, придя к нему в Гостиный двор с полицейским ратманом, двумя квартальными надзирателями, письмоводителем и аукционистом, настоятельно требовал допустить его к описи товара из лавки, и поэтому он вынужден был представить в счет обеспечения деньги. На следующий день, следуя указу правления, городничий вновь явился к нему и «в азарте» требовал оценить дом, лавку и товар Северикова, но от описи товара его отговорил ратман, поэтому был описан только дом. На третий день городничий приставил к дому его военный караул и «подверг жену его разным пристрастным расспросам, уст-ращивая ее тем, что возьмет ее под стражу, а сам он был схвачен в то время на дороге двумя квартальными надзирателями и отправлен с частным приставом в городническое правление, где городничий делал ему разные укоризны и выговоры, после чего он вынужден был возвратить паспорт». Севериков также обращал внимание министра на то, что правление даже не учинило исследование о том, почему городской голова Пух-коев не уплатил деньги Истомину, и, оставив его «без ответственности», обратило взыскание на него и служивших вместе с ним гласных, тем самым подвергнув их имущество конфискации в противность ст. 84 и 87 Городового положения. А ведь достаточно, сетовал купец, только одной молвы об описи его имущества, чтоб «подорвать его кредит», и поэтому в конце он просил министра освободить его от суда и выдать паспорт.
В своем отношении от 16 апреля министр внутренних дел В. П. Кочубей потребовал от губернатора предоставить ему подробные сведения по жалобе, а также выдать Северикову паспорт, «дабы он не был стесняем в коммерческих его делах». В ответ Олонецкое губернское правление своим журнальным постановлением от 8 мая 1823 года определило лишь предоставить министру обширную справку по делу и подтвердило свое мнение от 18 апреля 1823 года, а выдачу паспорта Северикову вновь задержало38. Сам же губернатор 8 мая 1823 года в рапорте министру внутренних дел так объяснял причины того, почему Севериков пытается «очернить» действия местного начальства: «Вступив в управление Олонецкой губернией в конце 1821 г., обратил я внимание на непомерный сбор денег, производящийся по г. Петрозаводску с купцов и мещан на разные городские и полицейские потребности». По рассмотрению же расходов Думы в 1821 году, писал губернатор далее, обратил он внимание «на совершеннейшую беспечность и невнимание» как при составлении сметы, так и при расходовании средств, при этом «многие деньги расходовались вообще без всякого утверждения городского общества». Поэтому, как писал далее губернатор, он не только ограничил расходы Думы на 1822 год, но был вынужден предписать Думе, чтобы из предположенных к расходу 4182 руб. она делала траты только с его разрешения. Безусловно, подчеркивал далее Рыхлевский, что такие его распоряжения «не могли быть приятными для членов градской Думы, давно привыкших распоряжаться общественными суммами без всякого надзора и ответственности. Но к концу года оказалось, что, несмотря на все мои предложения, из числа 4182 рублей члены Думы вписали в расход до 2 тясяч рублей, а сверх того открылось, что в 1821 г. употреблено более, чем было обществом предположено и предместником моим утверждено, а некоторые статьи не были удовлетворены, например, оставлены неоплаченными купцу Истомину за купленный у него дом для городской больницы собранные с граждан 2 тысячи рублей… Такое со стороны членов Городской думы к предложениям начальства невнимание и своевольство были предложены мною на рассмотрение Губернского правления…». В подтверждение своих слов губернатор обещал министру представить с первой же почтой отчетную ведомость о всех долгах Ду-мы39.
Поэтому уже 9 мая губернатор Рыхлевский запросил от Думы новую ведомость о всех долгах и недоимках, из которой следовало, что прежние долги, сделанные городским головою Ждановым с гласными, составили 10145 руб., а при городском голове Северикове – 11433 руб., всего 21578 руб. Из них, в свою очередь, ожидаемых к уплате было признано 5776 руб., следовательно, считал губернатор, нового долга Севе-риковым и гласными было сделано на 5657 руб. (в том числе и 3106 руб., которые были даны в 1821 году Севериковым в виде ссуды Думе на уплату текущих расходов). Сверх того губернатор усмотрел, что в течение своего трехлетнего служения Дума самовольно истратила из неокладных сборов без утверждения общественным приговором и начальством еще до 1950 руб. В силу этого он предложил правлению рассмотреть данные поступки бывшей Думы, которое своим журнальным постановлением от 17 мая 1823 года решило передать «все эти обстоятельства на рассуждение уголовной палаты», а также наложить запрещение на имения бывших городского головы Северикова и гласных Амозова, Иванова и Мартынова40.
И эти действия губернатора Севериков от лица всех гласных несколько раз обжаловал только что вступившему в должность генерал-губернатору С. И. Миницкому. Например, в одной из этих жалоб от 16 июля 1823 года он не только просил остановить продажу его имения, выдать паспорт, рассмотреть все обстоятельства продажи дома Истомина и вернуть внесенные им деньги за описанное имущество, но и чтобы судебный приговор по их делу был утвержден генерал-губернатором, а не губернатором или вице-губернатором, которые за жалобу, поданную им к министру, имеют, как он писал, «неудовольствие» на него, а поэтому «не могут быть беспристрастными» в данном деле41. Генерал-губернатор, еще не будучи в курсе всех подробностей распри между олонецкой губернской администрацией и петрозаводским городским самоуправлением, затребовал от губернского правления 10 июня и 4 июля сведения по делу и предложил «немедленно остановить распоряжение об распродаже имущества» до его собственного рассмотрения42.
Олонецкое губернское правление не спешило дать ответ генерал-губернатору, пытаясь надавить на городское общество и заставить его принять согласное решение по долгам. Только этим мы можем объяснить тот факт, что в течение одного июня 1823 года петрозаводское общество умудрилось принять два взаимоисключающих приговора: 1 июня – о принятии платежа прежних лет «не иначе как со всего общества», а 25 июня – о несогласии принимать эти долги на счет всего общества, чем поставило правление в недоумение43.
На своих заседаниях 6 и 18 июля 1823 года губернское правление, обсудив предложения генерал-губернатора от 10 июня и 4 июля, было принуждено рапортовать ему, что продажа имущества остановлена, но при этом о невыдаче паспорта Северикову умолчало. Тогда в августе 1823 года Севериков подает вторую жалобу министру внутренних дел, который требует от губернатора ответа, почему до сих пор просителю не выдан паспорт. Губернское правление своим журнальным постановлением от 31 августа 1823 года решает представить министру и генерал-губернатору очередную пространную справку по этому делу, из которой была бы очевидна правомерность отказа Северикову в выдаче паспорта. Поэтому Севериков 10 сентября 1823 года вновь обращается с очередной жалобой к генерал-губернатору, который в своем предложении от 20 сентября предписывает уже Олонецкой уголовной палате «не отягощать судьбу» гласных и скорее решить их дело, «а Северикову разрешить отлучку по коммерческим делам». В октябре генерал-губернатор сообщает правлению, что он «довел до сведения» министра внутренних дел и Правительствующего сената жалобу Северикова. В результате в конце года паспорт Северикову был все же выдан и далее выдавался по его первому требованию44.
А тем временем рассмотрение «дела Севери-кова и гласных» в Олонецкой уголовной палате шло своим чередом, а взыскание – своим. Большая часть долга купцу Истомину была внесена Севериковым и гласными деньгами в конце 1823 года. Уплата остатка долга, которая падала на гласного Амозова, задержалась до начала 1825 года, так как в его отношении применялась достаточно длительная процедура распродажи имущества через аукцион. В самом городском обществе продолжался раскол «на 2 партии», как писал в своем отношении генерал-губернатору 13 мая 1824 года губернатор Рыхлевский. Первая из них требовала возложить всю ответственность за долги на виновных в их приобретении, вторая счита- ла, что долги должно платить все общество. В своем ответе генерал-губернатор указал, что следует поддержать вторую партию45.
В конце 1824 года в губернии происходят важные кадровые перестановки: А. И. Рыхлев-ский переводится губернатором в Вятскую губернию, а на его место назначается Т. Е. Фан-дер-Флит, приступивший к обязанностям в конце февраля 1825 года. Формально ни новый губернатор, ни генерал-губернатор не могли вмешиваться в «дело Северикова и гласных», пока оно находилось на стадии судебного рассмотрения. Только однажды, в мае 1825 года, С. И. Миниц-кий, усмотрев в ведомости о нерешенных делах уголовной палатой это дело, предлагает ей «поспешить окончанием»46.
Олонецкая уголовная палата вынесла свое окончательное определение 30 июля 1825 года47. В первую очередь поражает тон его изложения, не дающий усомниться в том, что члены палаты не одобряли действий бывшего губернатора А. И. Рыхлевского и Олонецкого губернского правления. Палата, рассмотрев, как она писала, все обстоятельства дела «по каждому предмету особо», выяснила некоторые интересные моменты, которые не получили отражение в делопроизводстве правления. Например, то, что на заседании 28 декабря 1822 года присутствовал лично вице-губернатор и именно при нем были прочитаны все предложения губернатора (от 18 ноября, 2 и 12 декабря), но решения по ним общество не успело принять, так как «время уже было заполночь», и поэтому все было перенесено на следующее заседание. Что передержка в уплате долгов в 1820 году произошла оттого, что бывший в том году в июне в Петрозаводске генерал-губернатор А. Ф. Клокачев приказал, чтобы заставить уплатить долги жаловавшимся на Думу лицам, выставить каждого гласного на экзекуцию в составе 20 солдат, и поэтому, «убоясь ее», гласные вынуждены были начать немедленную проплату долгов, не предусмотренных в бюджете города на тот год. Что перерасход Думой 600 руб. произошел не самовольно, а по письменным или устным приказам губернатора Рыхлев-ского городскому голове Северикову, например: от 1 марта 1822 года – о поправке дорог и мостов по Высочайшим правилам 1817 года; от 16 мая – о выделении денег землемеру Потемкину, отмежевавшему городу лесную дачу, и на подготовку дома к приезду генерал-губернатора и некоторые другие мелочные расходы, о которых, как писала Дума, она не стала утруждать губернатора, но доносила ему ежемесячно. Что долги в размере 5657 руб. и самовольный расход еще 1950 руб. были сделаны Севериковым и гласными по крайней необходимости, так как, приступив, например, в 1821 году к ремонту ветхого моста через р. Лососинку и пристани, Дума не ожидала, что потребуется не исправлять, а строить новый мост, а на ремонт пристани придется употребить более денег, чем было предположено утвержденным губернатором В. Ф. Мертенсом расходом. И хотя, как показывал в ответах на вопросные пункты бывший городской голова Севериков, он не испросил письменного разрешения у Мертенса на перерасход необходимой суммы, последний разрешил это словесно и затем лично наблюдал за ходом строительных работ. Что губернатор А. И. Рыхлев-ский приказал в 1822 году выделить «на поправку государевого сада» 408 руб. и дополнительную сумму на отмежевание строевой дачи для города, вообще не запланированных в расходах на 1822 год. При этом все отданные губернаторами письменные предписания Дума представила в суд. В дополнение всего бывший городской голова Севериков предъявил палате похвальный лист, данный ему обществом при перевыборах Думы в декабре 1822 года, где ему была «выражена признательность с наименованием степенного и доброго гражданина за исправление им с 24 декабря 1820 г. должности городского головы с совершенным усердием и действительно на пользу общества», который был подписан 76 из 80 присутствовавших на собрании48. Заметим, что городское общество и позже не переставало доверять купцу Северикову, выбрав его, например, в мае 1825 и 1827 годов в комиссии «по приисканию способов к улучшению состояния городов» и «освидетельствованию хода поправки церквей Петра и Павла»49.
В результате уголовная палата полагала Севе-рикова и гласных преданными суду «совершенно безвинно, ибо распоряжения губернатора были исполняемы в точности без упущения». По поводу же расхода денег «не на те предметы, на которые они назначались», а также сделанных Думою долгов, палата находила, что в этом не открылось никакого злоупотребления, «ибо все это произошло по совершеннейшей крайности». Кроме того, городской голова Пухкоев был признан виновным в неуплате денег купцу Истомину50.
Умиротворенное таким решением уголовной палаты, а также сообщениями о выделении городу помимо строевой дачи ежегодного начиная с 1825 года пособия в 12 тыс. руб. на военный постой и полицейские расходы и решении Сената 1825 года (по протесту Олонецкого губернского правления) об обязанности города принять на себя прежние долги, городское общество 13 августа 1825 года сделало приговор о том, что, «желая сохранить навсегда между собой мир, тишину и доброе согласие, единогласно решило: платеж прежних лет долгов (с 1803 по 1820 г. в размере 10053 руб.) принять к полной ответственности целого общества и начать платить с 1826 г. по 2 тысячи рублей». Правление это решение полностью удовлетворило, так как оно было принято единогласно, соответствовало решению правления от 29 декабря 1820 года, предложению генерал-губернатора А. Ф. Клокачева от 17 июня 1822 года и статьям Городового положения, тем более, как замечало правление, что эти долги были сде- ланы до указа Сената от 12 сентября 1821 года. Но думается, что основная причина утверждения этого приговора была выражена правлением в следующих словах: приговор способствует «прекращению возникшей между начальством как о взыскании прежних лет недоимки, так равно и о заплате старых долгов переписки». Чуть позже генерал-губернатор С. И. Миницкий согласился с этим решением правления51.
Однако в дело вмешался губернский прокурор Херувимов, который составил протест на решение палаты от 30 июня 1825 года и представил его в сентябре 1825 года генерал-губернатору и министру юстиции. В частности, в нем он писал, что: 1) бывшие члены Думы городской голова Севери-ков и гласные Мартынов, Иванов и Амозов преданы суду справедливо, так как не исполнили в точности все предписания губернатора Рыхлевского и действительно допустили перерасход сверх запланированных и утвержденных губернатором, на что обращала внимание Думы в декабре 1823 года и счетная экспедиция Олонецкой казанной палаты, обревизовав ее книги за 1822 год; 2) Олонецкая уголовная палата не имела права в своем решительном определении в отношении Олонецкого губернского правления допускать таких выражений: «…что члены Думы должны были претерпевать столь безвинное истязание, а особенно в бытность городского головы Северикова, который в одно время был напрасно предан суду и подвергнут довольно нерезонно взысканию денег за чужое обязательство и пр., ибо такие замечания на счет Губернского Правления относятся до Высшего Начальства»; 3) палата допустила Северикову в своих ответах на вопросные пункты поместить оскорбительные на счет губернатора выражения, например: «…но каким правом Гражданский Губернатор руководствовался, мешаясь в общественные дела, приказывая Думе расходовать деньги на такие предметы, на кои даже от общества вовсе не было изъявлено воли и согласия, он, Севериков, постигнуть не мог, поэтому представляет то рассмотрению Палаты Уголовного Суда», за что Се-вериков, считал прокурор, подлежит законной ответственности; 4) ответы гласных «как будто бы с одного подлинника переписаны и гласят почти слово в слово, что не может случиться, ежели каждый из них писал особо свои ответы на вопросы»; 5) палата по собственной инициативе заключила дать вопросы Пухкоеву и на основании полученных ответов потребовала от правления испросить у генерал-губернатора разрешения на предание суду его, чем нарушила ст. 96 «Учреждений для губерний»; 6) палата, предоставив право Севери-кову «удовлетворить», если пожелает, за неправильное предание его суду и отобрание паспорта, «предоставила себе неограниченную власть», в противность ст. 129 “Учреждений для губерний”», тем самым предоставив право «искать убытки на губернаторе и вице-губернаторе и Губернском Правлении, что зависит от Высшего Правительства»; 7) палата предлагает прекратить учет, так как приговор о его проведении был подписан 42 членами (имелся в виду приговор городского общества от 16 февраля 1823 года), но отменить его не имеет права, ибо это постановило сделать «высшее место в губернии – Губернское Правление»; 8) палата постановила взыскать деньги в пользу Северикова с градского общества, но «не излишни ли старания Палаты в пользу частного лица и не нарушен ли указ Сената от 12 октября 1821 г. о запрете делать займы на счет общества?». В своем предложении уголовной палате от 25 сентября 1825 года С. И. Миницкий предписывал рассмотреть прокурорский протест и сделать заключение, но далее представить его на утверждение не ему, а новому губернатору, ибо «нет уже причин по перемещению Рыхлевского вносить дело ко мне»52.
Палата отреагировала, зная обычную делопроизводственную практику, можно сказать, молниеносно – 10 октября она «опровергла во всех отношениях» протест уже бывшего на тот момент губернского прокурора Херувимова и 19 октября представила свое заключение губернатору Т. Е. Фан-дер-Флиту. Примечательно не только содержание, но и тон этого заключения, в котором указывалось, что: 1) палата, основываясь на существующих законах (далее в тексте идут многочисленные ссылки на эти законы, которые позволим себе упустить), «не имела никакой обязанности приноравливать решения своего о членах Думы к частным положениям Губернского Правления» и она не умалчивала о замечаниях, сделанных Казенной палатой, но ведь и последняя не увидела злоупотреблений в передержках Думы; 2) в своих ответах Севериков повторил слово в слово жалобы министру внутренних дел и генерал-губернатору, и «если бы они были признаны оскорбительными, то и приняты не были и в движение приведены быть не могли бы»; 3) согласность в ответах гласных произошла не потому, что они были списаны, а потому, что им были даны одинаковые вопросы, но так как «они малограмотные, то давались эти вопросы в присутствии палаты каждому порознь, и, как невинные, отвечали одинаковыми словами и без всякой разности»53; 4) прокурор не смеет оскорблять палату в отношении ее действий к Пухкоеву, так как он был «взят в палату по оговору городского головы Северикова и гласных», и этим своим утверждением «не потворствует ли Прокурор Пухкоеву?»; 5) палата убеждена в принуждении граждан к принятию приговора 16 февраля 1823 года об учете, так как из 80 граждан его подписали только 42. В заключение палата писала, что рапорт прокурора генерал-губернатору «неуважителен и оскорбителен для Палаты, а свой приговор она оставляет в силе»54.
Губернатор Т. Е. Фан-дер-Флит не торопился утверждать это заключение уголовной палаты, так как, по-видимому, ожидал итогов финансовых учетов бывшего состава Думы, производившихся с 1823 года. И городское общество преподнесло губернской администрации очередной сюрприз – на своем собрании 5 февраля
1826 года, заслушав учеты всех расходов Думы за 1820–1822 годы, постановило не признавать сделанных городскими головами Пухкоевым и Севериковым долгов. Среди главных объяснений такого решения указывалось, например, что взыскивать деньги надо с тех, кто дал обязательство собрать вторично деньги на погашение долга купцу Истомину, что Севериков «учинил передержки» денег в 1821 году на поправку общественной пристани, домов, амбаров, дорог и мостов в черте города, на постройку моста через р. Лососинку и на другие предметы, закупив необходимые материалы «несоразмерно ценам из своей лавки, отчего одолжился значительной суммой… более собственно сам у себя безгласно и против воли градского общества в противность указа Сената от 12 октября 1821 г.» 55 . Таким образом, мы вновь убеждаемся, что раздоры внутри самого общества по поводу уплаты долгов отнюдь не были прекращены. В связи с таким поворотом событий губернатор решил не торопиться с утверждением определения палаты, пока она не изучит эти учеты 56 .
Уголовная палата своим журнальным определением от 5 августа 1826 года, сославшись на то, что дело решено до ранее представленных из правления учетов, а согласно ст. 130 «Учреждения о губерниях» и указу от 22 декабря 1814 года, она не вправе более перерешать его, постановила просто приобщить эти бумаги к делу и представить вновь на рассмотрение к губернатору57. Таким образом, поступая формально правильно, палата поставила губернатора Т. Е. Фан-дер-Флита перед трудным выбором – либо утвердить ее приговор, либо опротестовать в Сенат.
К сожалению, мы не нашли мнения губернатора, с которым он вышел 23 ноября 1826 года в Сенат, не согласившись с решением уголовной палаты от 30 июля 1825 года58. Из самого же решения Сената от 22 февраля 1829 года по «делу Северикова и гласных» понятно только то, что губернатор считал, что бывшие члены Петрозаводской городской думы во главе с Севериковым виновны «в невыполнении и невнимательности к предписаниям Начальника Губернии и самовольном расходовании общественных денег, но как поступки сии учинены до Высочайшего Манифеста 22 августа 1826 г., то оставить их сво-бодными»59.
В результате Сенат рассмотрел: 1) обвинения, выдвинутые против Северикова и гласных олонецкой губернской администрацией (за невыполнение предписаний бывшего гражданского губернатора Рыхлевского, самовольный расход общественных денег не на те предметы, на кои были предназначены, делание без приговоров градского общества и утверждения губернатора долгов на 5657 руб.); 2) факт самовольного израсходования без общественного приговора из неокладных сборов 1950 руб.; 3) решительное определение уголовной палаты от 30 июля 1825 года; 4) заключение палаты от 10 октября 1825 года на протест губернского про- курора Херувимова; 5) протест прокурора; 6) мнение губернатора Рыхлевского о решении Олонецкой уголовной палаты. «Сообразив их с силой ст. 1 Манифеста 22 августа 1826 г., согласно мнения Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернатора Миницкого, с которым согласен и министр внутренних дел», Рыхлевский полагал: «…все выводимые по сему делу неправильные действия бывшего городского головы Северикова и гласных, равно бывшего городского головы Пух-коева, губернского прокурора Херувимова и членов Олонецкой палаты уголовного суда на основании вышеприведенного Манифеста оставить без дальнейшего рассмотрения и заключения и прикосновенных лиц оставить свободными». В отношении же денег, взысканных с членов городской Думы в пользу купца Истомина, Сенат считал, что было бы «несправедливо» не возвратить их им. Точно так же Сенат определял необходимым вернуть Северикову и деньги, издержанные им на разные городские предметы, «тем более, что Олонецкая казенная палата никаких незаконных расходов не увидела, а точно они употреблялись на городские расходы в согласии со ст. 152 Городового положения», и поэтому Севериков «имеет право просить возвращения сих денег»60.
Так неожиданно благополучно для всех его участников закончилось «дело Северикова и гласных». Безусловно, что если бы не Манифест 1826 года, которым законодатель как мечом разрубил гордиев узел конфликта, не входя в рассмотрение всех его обстоятельств с точки зрения закона, Сенат несомненно бы вынес более жесткое определение как в отношении городского головы Северикова и служивших с ним гласных, так и губернского прокурора, членов уголовной палаты61, но, кажется, только не губернатора Рыхлевского. Петрозаводская дума во главе с городским головою Севериковым действительно нарушала его предписания. Существовавшие же на тот момент узаконения, по мнению известного исследователя городского самоуправления в Российской империи И. И. Дитятина, предписывали, чтобы «самый простейший расход, какая-нибудь копеечная починка могла иметь место лишь с разрешения губернатора или губернского правления» [2; 243].
Главная причина конфликта очевидна – это борьба между различными уровнями местного управления за реальное влияние на ход дел в губернии. Понятен и механизм развития конфликта. Первый уровень противостояния возникает между олонецкой губернской администрацией и петрозаводским общественным управлением по поводу расходования последним городских средств и уплаты накопившихся долгов. Здесь изначально перевес сил был на стороне администрации, которой, согласно Городовому положению 1785 года, подчинялось общественное управление и, прежде всего, в части расходования городских средств62. Однако последнее пытается отстоять свои немногие права в этой сфере в лице доста- точно независимого городского головы купца С. П. Северикова. Генерал-губернатор А. Ф. Кло-качев не сомневается в его деловых и нравственных качествах и поэтому защищает от нападок со стороны губернской администрации. В силу этого возникает второй уровень противостояния – между генерал-губернатором Клокачевым и олонецкой губернской администрацией, возглавляемой губернатором А. И. Рыхлевским, который в свою очередь порождает раскол внутри петрозаводского городского общества и губернского чиновничества. Первое из них по сути не является самостоятельным субъектом в конфликте, а испытывает непрекращающееся давление со стороны губернатора и собственной верхушки города, в силу чего постоянно принимает противоречивые приговоры, чем еще более запутывает ситуацию. Губернское чиновничество также вынуждено определиться с тем, какую сторону в конфликте – губернатора или генерал-губернатора – оно будет поддерживать, не забывая при этом воспользоваться ситуацией для извлечения собственной выгоды. Некоторая пауза, возникшая при замещении должности генерал-губернатора после смерти в начале 1823 года А. Ф. Клокачева, позволяет олонецкой губернской администрации наконец-то предать суду городского голову Севе-рикова и служивших с ним гласных Амозова, Мартынова и Иванова. Вступивший в должность новый генерал-губернатор С. И. Миницкий предпочитает, пользуясь формальными основаниями (дело в суде), не вмешиваться в конфликт. Он только ограждает интересы подсудимых, приостанавливая поспешную продажу их имущества с молотка. Члены уголовной палаты, явно стоявшие в оппозиции губернатору А. И. Рыхлевскому, дождавшись его перевода в другую губернию, принимают 30 июля 1825 года решение, совершенно оправдывающее действия бывших членов Петрозаводской думы. Приступивший к исполнению своих обязанностей в сентябре 1825 года губернатор Т. Е. Фан-дер-Флит, даже если предположить, что он нейтрально относился к Севе-рикову, не может без урона престижа губернаторской должности оставить безнаказанным допущенное, пусть даже в интересах городского общества, неисполнение распоряжений своего предшественника, и поэтому опротестовывает решение палаты в Сенат, воспользовавшись, впрочем, удачно подоспевшим Манифестом 1826 года. Генерал-губернатор С. И. Миницкий поддерживает мнение губернатора. Многолетний конфликт, к удовлетворению почти всех его участников, наконец-то разрешен.
Обратим также внимание на то, что все стороны конфликта при доказательстве своей правоты активно апеллировали к законам, которые в силу их чрезвычайной противоречивости и наличия в них множества пробелов позволяли обосновать даже самые противоположные позиции. Генерал-губернаторы в такой ситуации должны были быть крайне осторожными и балансировать между за- конностью и целесообразностью. Вот почему А. Ф. Клокачев, подчас соглашаясь с мнением губернской администрации, все же изыскивал правовые основания, не позволяющие предать суду петрозаводских гласных во главе с городским головой Севериковым. Его приемник – С. И. Ми-ницкий – мог лишь «вступаться» за Северикова, пресекая допускаемые по отношению к нему со стороны губернской администрации очевидные случаи внесудебного преследования (например, невыдачу паспорта), а также собственно судебную волокиту, не имея при этом права вмешиваться в производство самого дела.
Представляется, что ни Александр I, ни правительство, стремясь сделать более эффективной систему государственного управления на местах посредством введения института генерал-губернаторов, никак не ожидали столкнуться с обратным результатом. На примере «дела петрозаводского городского головы Северикова и гласных» мы попытались показать, как генерал-губернаторы с их столь широкими, но весьма противоречивыми полномочиями становились новым источником конфронтации между различными уровнями управления на местах.
Список литературы Роль генерал-губернатора архангельского, вологодского и олонецкого в разрешении конфликта между Олонецкой губернской администрацией и Петрозаводским городским общественным управлением (20-е годы XIX века)
- Учреждения для управления губерний 1775 г.//Российское законодательство X-XX вв.: В 9 т. Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. М., 1987. С. 182-184.
- Всего было подано прошений от 15 человек//Государственный архив Архангельской области (далее -ГА АО). Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 116 (№ 359), 251 (№ 652), 257 (№ 668), 274 (№ 690), 282 (№ 714), 299 (№ 742).
- На время присутствия генерал-губернатора Клокачева в Петрозаводске городской голова Пухкоев уехал из города, поэтому уже в сентябре 1820 года генерал-губернатор предложил Олонецкому губернскому правлению рассмотреть вопрос о возможном удалении его от должности городского головы. Пухкоев скомпрометировал себя в глазах генерал-губернатора и другими неблаговидными поступками, в том числе тем, что находился под судом за увоз чужой жены, а также составил ложный приговор от лица всего городского общества о лишении доброго имени прежнего городского голову Жданова и служивших с ним гласных//ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 256 (№ 665), 387 (№ 973), 478 (№ 1254), 570 (№ 14760).
- Национальный архив Республики Карелия (далее -НА РК). Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 83.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1 (далее -ПСЗ-1). Т. 24. № 182768; Т. 30. № 23765; Т. 33. № 25872, 26349; Т. 34. № 26941.
- НА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2555. Л. 109; Д. 2556. Л. 7-8; Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 21.
- ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 711 (№ 1900).
- НА РК. Ф. 2. Оп. 61. Д. 611. Л. 1.
- По данным петрозаводского городничего, в Петрозаводске на тот момент числилось 585 душ купцов, мещан и статских чиновников, а служителей заводского ведомства -1216 душ. На Голиковке в своих избах проживало в 1826 году 276 мастеровых//ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 390 (№ 994), 733-734 (№ 1938); НА РК. Ф. 1. Оп. 37. Д. 2. Л. 1143; [4; 171].
- ПСЗ-1. Т. 24. № 18278; Т. 25. № 18614.
- ГА АО. Оп. 1. Д. 36, Л. 745 (№ 1956).
- Там же. Л. 722 (№ 1918).
- Там же. Л. 732 (№ 1935); Д. 84. Л. 1 (№ 5); НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 290. Л. 767-770; Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 82.
- Однако в последующем, при определении точного размера этого сбора, возникли затруднения, в силу чего в 1825 году сменивший на посту генерал-губернатора А. Ф. Клокачева С. И. Миницкий вообще предложил правительству отказаться от строительства казарм//ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 133. Л. 296-297 (№ 405); Д. 191. Л. 43-45 (№ 35, 36); Д. 262. Л. 304 (№ 635); Л. 312 (№ 668); Д. 263. Л. 138-150 (№ 1612); НА РК. Ф. 1. Оп. 37. Д. 2. Л. 471-473; Ф. 2. Оп. 41. Д. 10. Л. 196-197.
- ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84. Л. 460 (№ 1056). Л. 602-603 (№ 1364).
- НА РК. Ф. 2. Оп. 61. Д. 611.
- Однако укажем сразу, что все эти предложения Думы по увеличению своих доходов не имели успеха: в 1823 году Александровский завод отказался от пользования камнем в городской черте; разночинцы только однажды -в 1824 году -по приказанию А. И. Рыхлевского, сменившего губернатора В. Ф. Мертенса, участвовали в особом сборе «на полицейские надобности», а долг за военнослужителей был в 1831 году по указу Олонецкой казенной палаты списан//ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84. Л. 632-635 (№ 1427), 670 (№ 1532); Д. 191. Л. 343-346 (№ 671); НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 1043. Л. 14; Д. 1240. Л. 432-434, 440.
- То есть на содержание «магистрата и прочих людей, коим по городской службе жалованье определено, а также городских школ и других заведений, приказу общественного призрения принадлежащих».
- Заметим сразу, что и этот вариант Положения о полиции был отвергнут МВДиво кончательном виде был представлен только в марте 1828 года//НА РК. Ф. 2. Оп. 61. Д. 640. Л. 2-24, 73; ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84. Л. 775 (1758); Д. 133. Л. 595-596 (№ 741).
- ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84. Л. 1126 (№ 2325).
- О принадлежности С. Северикова к староверам указывается, например, в [4; 23]. Впрочем, еще Екатерина II допустила выбирать раскольников в городские службы//ПСЗ-1. Т. 22. № 16238.
- Почти сразу по приезде на новое место службы А. И. Рыхлевский вступил в конфликт с чиновниками Олонецкого губернского правления, которые, несмотря на его неоднократные напоминания, не спешили рассматривать поступавшие в правление дела. Не случайно уже в конце 1822 года он просит генерал-губернатора Клокачева о переводе его по состоянию здоровья в другую губернию. В феврале 1823 года Рыхлевский совершает опрометчивый поступок по отношению к губернскому стряпчему Карабутову, велев отправить его в сумасшедший дом, за который 24 апреля 1824 года был подвергнут строгому замечанию со стороны Комитета министров и который окончательно настроил против него многих губернских чиновников (в том числе вице-губернатора Нейдгардта и председателя уголовной палаты Башинского) // Росийский государственный исторический архив (далее - РГИА). Ф. 1286. Оп. 3. Д. 222 А; НА РК. Ф. 1. Оп. 37. Д. 2. Л. 214, 247-262, 290-291, 1265-1284; Ф. 2. Оп. 62. Д. 6; ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191. Л. 9 (№ 11).
- В первом указе говорилось, что выполнение добровольных складок обращать можно только на тех, кто изъявил на это свою волю; во втором -если на какой-то сбор не согласились все члены общества, то можно и не собирать этого сбора; в третьем -магистратам и думам было запрещено делать займы на счет обществ и градских доходов//ПСЗ-1. Т. 37. № 28781; НА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2554. Л. 16-17.
- НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 84.
- ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 133. Л. 925 (№ 1185); 940-941 (№ 1190); 959 (№ 1245).
- Там же. Д. 132. Л. 260 (№ 1690); НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 45-47, 55-60.
- ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 132. Л. 267 (№ 1719). Л. 373 (№ 1838). Л. 380 (№ 1846).
- Там же. Д. 132. Л. 459 (№ 1993). Л. 472-473 (№ 1995). Л. 486 (№ 2000); НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 61-79.
- Согласно этой статье: «Буде же случится, что губернаторские приказания не соответствуют пользе общей или службе императорского величества или нарушают узаконения, и губернатора (в нашем случае -генерал-губернатора) рассуждениями и от того отвратить им не можно, тогда советники долженствуют внести в правление письменно свое мнение и генерал-губернатора и Сенат уведомить; но приказаний губернаторских отменить не могут, и по оным исполнять обязаны»//Российское законодательство… Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма… С. 186-187.
- Киннаева потому, что он до этого уже избирался словесным судьей и гласным, а по силе ст. 282 «Учреждений для губерний» нельзя никого, кто имеет за службу в должностях похвальный лист, «унизить должностью»; Дубинкина потому, что более 40 лет служил мастеровым и, выйдя в отставку старым и неимущим, «не мог бы и нанять вместо себя десятского, как обычно делают другие», так как такой найм, по сведениям правления, обходился горожанину в 180-200 рублей.
- НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 73-79.
- Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2554. Л. 16-26.
- Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2554. Л. 5-16, 26-27, 34-42, 47; Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 90-100, 133-139.
- ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191. Л. 4 (№ 24); НА РК. Ф. 1. Оп. 37. Д. 2. Л. 29.
- НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 3-18.
- Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2556. Л. 13-14 (и далее до конца дела (Л. 17-143) идут сами учеты).
- Там же. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 19-42.
- Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2554. Л. 78-81; Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 45-121.
- Там же. Ф. 1. Оп. 37. Д. 2. Л. 730-735.
- Там же. Л. 744, 764-765; Д. 933а. Л. 122-133.
- Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2254. Л. 76-77; ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191. Л. (№ 33), 63 (№ 114), 111 (№ 205).
- НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 158-167.
- Там же. Д. 1240. Л. 301.
- Там же. Д. 933а. Л. 194-211; Д. 982а. Л. 36, 49; Ф. 9. Оп. 1. Д. 2554. Л. 83-84; Ф. 1. Оп. 37. Д. 2. Л. 1790; ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191. Л. 354 (№ 688), 427 (№ 826).
- НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 1-3; Д. 982а. Л. 54; Ф. 656. Оп. 1. Д. 1103; ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262. Л. 413 (№ 887).
- Там же. Л. 64; ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262. Л. 445 (№ 2143); Д. 329. Л. 106-107 (№ 255); Д. 329б. Л. 258 (№ 941); РГИА. Ф. 1286. Оп. 3. Д. 222а. Л. 62.
- Собственно само уголовное дело на сегодняшний день состоит из 7 разрозненных томов, хранящихся в трех фондах: Ф. 655 (Олонецкая палата уголовного суда). Оп. 1. Д. 869а. Т. 6 (196 л.); Д. 933а. Т. 3 (220 л.); Д. 982а. Т. 4 (168 л.); Ф. 656 (Олонецкая палата гражданского суда). Оп. 1. Д. 1103 (13 л.); Ф. 9 (Олонецкая палата уголовного и гражданского суда). Оп. 1. Д. 2554. Т. 1 (120 л.); Д. 2555. Т. 2. (162 л.); Д. 2556. Т. 3 (143 л.).
- Сам похвальный лист см.: НА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2554. Л. 117-118.
- Там же. Ф. 2. Оп. 61. Д. 678. Л. 44; Ф. 1. Оп. 36. Д. 11. Л. 106.
- Там же. Ф. 655. Оп. 1. Д. 869а. Л. 143-153.
- Там же. Д. 1240. Л. 123-125, 141, 302-306; ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329г. Л. 405 (№ 1878).
- Там же. Л. 439 (№ 2194), 460 (№ 2246, 2261); НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 982а. Л. 102-131.
- Надо знать особенности проведения уголовного процесса в 1-й половине XIX века, который основывался на «теории формальных доказательств», введенной еще Петром I. Согласно ей, свидетельские показания признавались «совершенными» (то есть на их основании можно было делать приговор), если это были согласные показания не менее двух «годных» свидетелей. Однако, по нашему убеждению, члены уголовной палаты, неприязненно относившиеся к действиям губернской администрации, возглавляемой губернатором А. И. Рыхлевским, и прекрасно знавшие требования закона, помогли гласным Амозову, Мартынову и Иванову «синхронизировать» свои показания с показаниями Северикова.
- НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 982а. Л. 134-143.
- Явно, что здесь имелась в виду сумма в 3106 руб., которую одолжил в 1821 году Думе на текущие расходы Севериков.
- НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 982а. Л. 147-167; Д. 2556. Л. 8-10.
- Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2556. Л. 1-6.
- Там же. Ф. 655. Оп. 1. Д. 869а. Л. 141, 192.
- Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2554. Л. 1-4.
- Проплаты С. Северикову в размере 1 тыс. руб. в год начались с 1831 года//Д. 1240. Л. 443 (об.).
- Кстати, сенатор Баранов, ревизовавший в 1827/28 году Олонецкую губернию, в рапорте императору от 11 февраля 1828 года также писал, что Олонецкая уголовная палата «при всех явных доказательствах» неправомерно «совершенно оправдала» Северикова и гласных. Более того, она «вошла в обсуждение действий» олонецкого губернского правления и гражданского губернатора «вместо подсудимых» и не «уважила протеста губернского прокурора, ни замечаний… губернатора, основательно и правильно указавшего на ошибки Палаты»//РГИА. Ф. 1409. Оп. 9. Д. 5206.
- ст. 151-154, 177 Городового положения.
- Балагуров Я. А. Олонецкие горные заводы в дореформенный период. Петрозаводск, 1958. 212 с.
- Дитятин И. И. Статьи по истории русского права. СПб.: Изд-во О. Н. Поповой, 1895. 631 с.
- Ефимова В. В. Кадровая политика генерал-губернатора Архангельского, Вологодского и Олонецкого А. Ф. Клокачева (на примере Олонецкой губернии)//Вестник Карельского филиала СЗАГС-2008: Сб. науч. ст. Петрозаводск, 2008. С. 296-324.
- Кораблев Н. А., Мошина Т. А. Городские головы Петрозаводска. 1778-1918 гг.: Биографический справочник. Петрозаводск: Стандарт, 2008. 82 с.