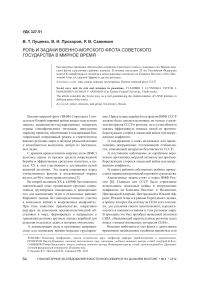Роль и задачи Военно-морского флота советского государства в мирное время
Автор: Луценко Владимир Трофимович, Прохоров Виктор Иванович, Савинкин Роман Васильевич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Политология. История. Философия.
Статья в выпуске: 4 (20), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены принципы обеспечения интересов Советского Союза с помощью сил Военно-морского флота в различных районах планеты. В течение последних 20 лет Российская Федерация многое из наработанного потеряла в международных контактах на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Северной Африке и других регионах.
Мир, задача, морская группировка
Короткий адрес: https://sciup.org/170175355
IDR: 170175355 | УДК: 327.51
Текст научной статьи Роль и задачи Военно-морского флота советского государства в мирное время
Военно-морской флот (ВМФ) Советского Союза после Второй мировой войны владел искусством защиты национально-государственных интересов страны специфическими методами, присущими мирному времени, обеспечивая и поддерживая благоприятный оперативный режим в стратегически важных регионах мира, и обладал реальной мощью и способностью выполнить любую из поставленных задач.
С древних времен военно-морские силы (ВМС) являлись одним из важных средств вооруженной борьбы и эффективным средством политики, в начале XX в. они участвовали в достижении целей внешней политики. Эта задача сохранялась перед отечественным флотом в послевоенный период вплоть до 90-х годов прошлого века [3].
Во второй половине XX в. в ВМФ был накоплен значительный опыт организации крупных оперативных группировок однородных и разнородных сил для выполнения задач в отдаленных районах Мирового океана без непосредственного участия в локальных войнах и вооруженных конфликтах. При этом советское правительство, оперативно реагируя на изменения военно-политической обстановки в мире, формировало и направляло в тревожные регионы крупные отряды кораблей для решения отдельных задач, к которым относились:
-
1) демонстрация силы в противовес американским или натовским военно-морским группиров-
- кам. Присутствие кораблей под флагом ВМФ СССР должно было свидетельствовать не только о наличии интересов СССР в регионе, но и о способности оказать эффективную помощь одной из противоборствующих сторон в локальной войне или вооруженном конфликте;
-
2) поддержание в зонах возможных или происходящих вооруженных столкновений стабильности, отвечающей интересам безопасности СССР;
-
3) постоянное наблюдение за кораблями вероятного противника, морской активностью противоборствующих сторон в локальной войне или вооруженном конфликте;
-
4) защита районов собственных рыбных промыслов и охрана коммуникаций торгового судоходства.
Аналогичные задачи стоят и перед ВМФ России [8]. Главным для СССР было стремление использовать локальные войны и вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, в Индонезии, Центральной Америке, Центральной и Южной Африке, Южной Азии и в районе Персидского залива, в орбиту которых были втянуты США и их союзники, для усиления своего политического, идеологического и военного влияния в этих регионах мира. В принципе это был прообраз нынешней политики США, объявляющей перечисленные регионы и ряд новых «зонами жизненных интересов США».
Высокая мобильность сил флота с длительным временным нахождением в районах вероятных или
реальных боевых действий без нарушения суверенитета других государств и осложнения международных отношений являлась важнейшим фактором, влияющим на ведение и предотвращение локальных войн и вооруженных конфликтов. Следует учитывать, что советские корабли были готовы к применению оружия в течение всего периода действия в оперативно важных районах. Силу воздействия ВМФ на военно-политическую обстановку в регионе советское руководство учитывало, когда было необходимо оказать помощь или содействие одной из стран – участниц локальной войны или вооруженного конфликта. Это, как правило, были страны с правительствами, выступавшими против политики Запада и заявлявшими о приверженности идеям социалистической ориентации.
Боевые корабли, осуществлявшие военно-морское присутствие, находились за пределами национальных границ прибрежных государств, т.е. в правовом отношении соблюдали право свободы открытого моря. Ответственность за деятельность кораблей в открытом море, в том числе за возможные акты агрессии, несло государство флага.
Стратегия целесообразности присутствия советского ВМФ в Мировом океане формировалась десятилетиями [3]:
В начале 1950-х годов изучали обстановку, оперативное построение, формы и способы действий группировок ВМС США и их союзников на Атлантическом и Тихоокеанском театрах.
Начиная с 1958 г. подводные лодки Северного (СФ) и Тихоокеанского (ТОФ) флотов совершали походы на полную автономность с выходом за пределы операционных зон флотов для освоения районов боевой деятельности ВМС вероятного противника, что позволило накопить и обобщить знания для развития теории и практики применения отечественного ВМФ. Таким образом формировался замысел оперативного применения сил флота в общей военной доктрине при быстрорастущем потенциале соединений и объединений флота.
В 1958 г. приобрели первый опыт создания военно-морской группировки, когда с Балтики в Средиземное море поэтапно перевели бригаду подводных лодок. В одной из бухт (албанский залив Влера) оборудовали пункт временного базирования со всей необходимой береговой инфраструктурой.
В 1962 г. в главный порт Индонезии Сурабая прибыла бригада подводных лодок Тихоокеанского флота и прилетели несколько самолетов дальней авиации. В этом же году провели операцию «Анадырь», позволившую создать на Кубе группировку сухопутных войск (42 тыс. чел.) и перебросить морем полки ракет средней дальности (РСД) Р-12 и Р-14 с ядерными боеголовками. ВМФ должен был создать оперативную группировку разнородных сил из эскадры надводных кораблей (по 2 крейсера и по 2 ракетных и артиллерийских эсминца) из состава Черноморского флота (ЧФ), эскадры подводных лодок (дивизия ракетных и бригада торпедных лодок) из состава СФ, полка морской пехоты и берегового ракетного полка. Прикрытие транспортного флота в Карибском море осуществляла бригада из четырех подводных лодок (ПЛ) СФ, выполнивших прорыв в Атлантический океан и встретивших сильнейшее противодействие со стороны США, поэтому вынужденных вернуться на базу.
Создание временных оперативных группировок кораблей в отдаленных районах и ряд других проблем потребовали решения задач по обеспечению военной безопасности морских коммуникаций. Качественные изменения в характере боевой и повседневной деятельности ВМФ в середине 1960-х годов и новые формы поддержания сил в высшей степени боевой готовности в мирное время (боевая служба, военно-политическое и военно-стратегическое содержание, заключавшееся в том, что мероприятия и действия флота проводили по единому замыслу и плану, предотвращали внезапное нападение и ослабляли до минимума возможность ракетноядерного удара ВМС США и НАТО по СССР) позволили решить актуальные задачи. Существенно упрощали их решение своевременное обнаружение атомных ПЛ с баллистическими ракетами и авиационных ударных соединений противника, уничтожение первых до старта ракет и вторых до массового подъема палубной авиации в воздух и развертывание сил ВМФ СССР в оперативно важных районах Мирового океана. Это оказывало влияние на социально-политическую обстановку в прибрежных государствах и делало возможным оказание при необходимости поддержки странам с политикой и идеологией, вписывавшимися во внешнеполитические установки советского руководства.
Заблаговременное развертывание части бое-готовых сил ВМФ в определенных районах Мирового океана для немедленного их применения в случае неконтролируемого развития военно-политических кризисов становилось насущной объективной необходимостью. Военно-морское присутствие СССР и США, стран НАТО и Варшавского договора становилось составной частью стратегического равновесия в глобальном и региональном масштабах, нарушить которое в одностороннем порядке никто не решался.
Первыми к несению боевой службы приступали самолеты разведывательной авиации, затем – одиночные надводные корабли, атомные и дизельные подводные лодки. Существенной мощности боевой суммарный потенциал достиг с формированием оперативных эскадр разнородных сил ВМФ в наиболее взрывоопасных районах Мирового океана, в том числе первого соединения 5-й Средиземноморской оперативной эскадры, создание которой было связано с событиями арабо-израильской войны 1967 г. Это необходимо было сделать для противодействия ВМС США в Средиземном море, сбора информации об израильских войсках и оказания помощи Египту на море. В составе эскадры было сосредоточено до 40 кораблей, в том числе 10 ПЛ СФ и ЧФ.
Наличие таких сил в регионе позволило СССР 10 июня 1967 г., разорвав дипломатические отношения с Израилем, по прямой линии связи с Вашингтоном поставить мир в известность о том, что в случае непрекращения военных действий СССР примет меры военного характера. В тот же день был прекращен огонь, и таким образом, не предотвратив военное поражение арабских стран, СССР помог их руководству уйти от политического краха.
В 1973 г. нависла угроза захвата Израилем египетского города Порт-Саид. Образование сил морского десанта с кораблей 5-й Средиземноморской оперативной эскадры и ЧФ позволило предотвратить подобное развитие событий.
В августе 1967 г. на боевую службу в Индийский океан вышла 8-я эскадра кораблей специального назначения. К январю 1968 г. были сформированы 7-я оперативная эскадра на Северном и 10-я на Тихоокеанском флотах.
С уходом американских войск из Вьетнама в 1974 г. для обеспечения военно-морского присутствия СССР в южных морях Тихого океана сформировали 17-ю оперативную эскадру с базированием в порту Камрань, в которую вошли дивизия ПЛ, бригада надводных кораблей, дивизион судов обеспечения, смешанный авиационный полк и ряд других подразделений. Она просуществовала до начала 90-х годов.
Повышение удельного веса политических задач, решаемых силами боевой службы, в начале 60-х годов потребовало включения в состав корабельных групп десантных кораблей с частями морской пехоты и боевой техники на борту, направлявшихся практически во все регионы и страны возникновения кризисных ситуаций (Гвинея, Вьетнам, Йемен, Эфиопия, Сирия, Египет и т.д.).
Для начала на Средиземном театре военных действий (ТВД) и в Индийском океане отработали высадку морских десантов на побережье дружественных стран (август–сентябрь 1989 г., совместные учения ЧФ, ВМС Сирии и Египта с десантированием в районе порта Латакия и отработкой ведения боевых действий сил морской пехоты в условиях пустыни).
В 1971 г. при конфликте между Индией и Пакистаном 8-я оперативная эскадра ВМФ СССР, состоявшая из подводных лодок и надводных кораблей, была направлена в Аравийское море для демонстрации присутствия и наблюдения за развитием событий в его акватории и Персидском заливе и согласования действий с правительством Южного Йемена с аэродрома Аден. Отдельные авиаотряды самолетов ИЛ-18 из состава ВВС Балтийского флота (БФ), СФ и ТОФ обеспечивали противолодочное прикрытие. Это привело к сдерживанию разрастания конфликта в конце 1971 – начале 1972 г.
В сентябре–октябре 1972 г. западнее порта Бербера проводились совместные учения сил ТОФ и вооруженных сил Сомали с высадкой пехоты на берег, оборудованный противодесантной обороной, совершением 80-километрового марша в условиях пустыни и последующей обратной посадкой на десантные корабли. Группировка кораблей ВМФ СССР в Индийском океане, Красном и Средиземном морях с десантными кораблями и морской пехотой ТОФ и ЧФ обеспечивала ввод советских войск в Афганистан. В ответ на активизацию американских морских пехотинцев в Индийском океане в состав 8-й оперативной эскадры ввели несколько десантных кораблей. Совместно с йеменскими ВМС провели учение по высадке морского и воздушного десантов на о-в Сокотра. Стремительность, организованность и четкое взаимодействие десантов двух стран значительно охладили пыл и снизили морскую активность американцев в регионе.
С начала 70-х годов ВМФ выполнял задачи, связанные с последствиями локальных войн. Осуществляли их специально создаваемые соединения. В 1972–1974 гг. по просьбе правительства Бангладеш силами экспедиции ТОФ ввели в строй главный порт Читтагонг, разминировав фарватер и убрав затонувшие суда в гавани. Силами 8-й эскадры и ЧФ разминировали Красное море, Суэцкий канал и Суэцкий залив и спасали советских военных летчиков, воевавших на стороне Египта. Происходило это, когда Египет и Израиль находились в состоянии войны. Боевое траление осуществляли в районах, не контролируемых ВМС Египта. Советским тральным силам необходимо было организовывать охрану, противовоздушную, противоракетную и противодивер-сионную оборону.
Боевое траление являлось практическим мероприятием, решало задачи военно-политического характера и утверждало военно-морской флаг на морях и океанах. Присутствие кораблей советского флота в кризисных районах демонстрировало оружие и технические средства в действии, отечественную систему подготовки личного состава и его высокое профессиональное мастерство. Выполнение реальных задач и длительное пребывание в районе развивали и укрепляли связи с местным населением.
Этим же целям служили заходы кораблей с морской пехотой на борту в порты иностранных государств (Республика Гвинея, Сирия, Ангола, Куба, Йемен, Сомали, Ирак, Эфиопия, Сейшельские острова, Кампучия, Мозамбик, Вьетнам, о-в Сокотра, Маврикий и др.).
Группировки ВМФ решали и частные конкретные задачи:
-
- обеспечение доставки оружия, военной техники, продовольствия и других грузов участникам локальных войн и вооруженных конфликтов из дружественных Советскому Союзу стран;
-
- подготовка кадров для ВМС этих стран в военно-морских училищах, академиях и центрах подготовки на территории СССР и странах пребывания;
-
- передача военно-политическому руководству стран-союзников разведывательной информации или ведение разведки в их интересах; защита (сопровождение) своих и иностранных торговых судов и транспортов с грузами на переходе морем и на якорных стоянках в зарубежных портах: в 1975 г. при боевых действиях в Анголе с Кубы морем перебрасывали кубинские войска, в конце 80-х – начале 90-х годов подобную деятельность осуществляли корабли 85-й оперативной бригады в акватории Индийского океана, Красного моря и Персидского залива, в ходе и после окончания ирано-иракского конфликта без потерь и повреждений провели 178 конвоев через зону боевых действий в Персидском заливе (374 торговых судна, иногда с применением оружия) [3].
Формирование оперативных эскадр и выход ВМФ СССР в океанские акватории потребовали решения вопросов тылового обеспечения флота на правительственном уровне: создание системы маневренного тыла, которая с 1964 г. до конца 70-х годов постоянно наращивалась: с 1971 г. постоянное базирование отряда кораблей в Конакри, с 1972 г. систематические заходы кораблей и судов боевой службы в порты Сомали, в 1977 г. подписано соглашение о военно-морском содружестве с Бенином, в 1978 г. – с Республикой Сан-Томе и Принсипи; организация пунктов материально-технического обеспечения (ПМТО) в портах Луанда (Ангола), Бербера (Сомали), на островах Дахлак (Эфиопия) и Сокотра (НДРЙ); использование временных ПМТО в Марса-Патрух и Порт-Саиде (Египет), Тартусе и Латакии (Сирия), Камрани (Вьетнам), Сплите (Югославия), Александрии (Египет), Триполи и Тобруке (Ливия), Бизерте и Сфаксе (Тунис). Нестабильность политических режимов и их частая переориентация во внешней политике, в том числе на США, приводили к потере арендованных стоянок и большей части созданной СССР береговой инфраструктуры (так, в 1977 г. Сомали денонсировало договор и потребовало от двухтысячной советской колонии в три дня покинуть страну – флот эвакуировал советских и кубинских граждан). Эпизоды с ускоренной эвакуацией были не единичными, поэтому государство пошло по пути наращивания потенциала плавучего тыла, который включал танкеры, корабли комплексного снабжения, транспорты-ракетовозы, плавмастерские, плавбазы и др. (в начале 60-х годов ВМФ имел 7 судов обеспечения суммарным тоннажем 48 тыс. т, в конце 70-х годов – 38 судов тоннажем 332 тыс. т), и подвижных (дрейфовых) пунктов базирования с использованием плавучих баз и других судов снабжения, позволявших существенно увеличивать автономность сил флота [3].
Распад Советского Союза резко сократил масштабы военно-морской деятельности ВМФ в отдаленных районах Мирового океана и понизил престиж России. Это произошло в условиях решения новых задач, вставших перед страной в 90-е годы. Особенно сложно пришлось Черноморскому флоту, привлекавшемуся к решению задач в зоне грузиноабхазского конфликта.
Военно-морской флот СССР после Второй мировой войны овладел искусством защиты национально-государственных интересов страны специфическими методами, характерными для мирного времени, обеспечивал благоприятный оперативный режим в стратегически важных регионах мира, обладал реальной мощью и способностью выполнить любые поставленные задачи и предупредил переход вооруженных конфликтов в ряде районов в крупномасштабные войны [3, 7].
Потенциальные угрозы национальным интересам России в Мировом океане обусловлены качественным и количественным наращиванием мощи ВМС другими странами [1, 5, 9] в регионах, прилегающих к нашему побережью, территориальными притязаниями (на островах Курильской гряды, Сахалине и в Арктике [8]), неурегулированием вопросов о разграничении экономических морских зон и континентального шельфа, ущемлением экономических интересов государства и посягательством на природные ресурсы, нарушением территориальных вод и пиратством в них и контрабандой морским путем [2, 8]. Они могут стать предпосылкой возникновения вооруженных инцидентов и конфликтов (как в 1969 г. с Китаем на о-ве Даманском), локальных и региональных войн (как в 2010 г. в Южной Осетии с Грузией и ранее в Абхазии с Грузией) практически на всем протяжении морских и сухопутных границ Российской Федерации.
В работах [3, 7] содержится информация о спорных территориальных вопросах России и соседних государств, которые самостоятельно или в группировке имеют значительные военно-морские силы, в том числе входящие в состав НАТО [9]. Среди них страны бывшего Советского Союза и Варшавского договора (Латвия, Литва, Эстония, Польша и Румыния) и страны с исламским фундаментализмом. Следует отметить, что агрессивность заявлений по отношению к территории России нарастает, уже госсекретари США вопрошали, «справедливо ли России одной владеть Сибирью». Об этом сообщало радио «Россия». Подобные притязания предъявляются на шельф и острова Арктики, в частности Норвегией.
Перечисленное означает, что в XXI в. задачи ВМФ по обеспечению национальной безопасности РФ не упрощаются по сравнению со второй половиной предыдущего столетия, и сводятся они к следующему [4, 6]:
-
- наблюдение и сбор разведывательной информации в океанских и морских районах для оценки уровня угрозы и планирования ответных действий;
-
- противодействие разведкам ВМС иностранных государств;
-
- защита судоходства и экономических интересов страны (производственная и промысловая деятельность на море);
-
- защита судоходства от терроризма на море, граждан и собственности России за рубежом;
-
- выполнение и поддержание представительских и внешнеполитических функций России;
-
- помощь населению при катастрофах и стихийных бедствиях;
-
- миротворческие функции по разведению войск враждующих сторон на прибрежных участках и оказание гуманитарной помощи с моря под эгидой ООН или на основании региональных международных соглашений;
-
- эвакуация мирных жителей и российского имущества с морского побережья при стихийных происшествиях и вооруженных конфликтах;
-
- борьба с диверсионными силами, проникшими на территорию страны и дружественных государств, их разоружение и уничтожение;
-
- демонстрация флага России и военное присутствие в кризисном районе, подтверждение готовности России к укреплению стабильности в таких районах и удерживанию конфликтующих сторон от применения военной силы;
-
- оказание военной помощи в соответствии с двусторонними договорами;
-
- борьба с бандформированиями, проникшими на территорию страны и дружественных государств и действующими в прилегающих к морю районах, их разоружение или ликвидация.
Перечисленные задачи могут успешно решать силы ВМФ, учитывая наличие в нем воздушных сил и морской пехоты, но значительно затрудняются из-за бездарных реформирований флота и вооруженных сил в целом, проведенных в стране за последние 20 лет. Потеряны места базирования кораблей и аэродромы на Балтике, значительно ограничены действия и состав Черноморского и Балтийского флотов, недостаточно финансируется судоремонт, что приводит к преждевременному выводу кораблей из строя и разрушению судоремонтных предприятий. Это только часть причин ослабления флота и вооруженных сил страны в целом.
В настоящее время не используются пункты материально-технического обеспечения (МТО) Сиен-Фуэгос (Куба), Свиноустье (Польша) и Росток (Германия), базы ударных сил флота в Египте, Ливии, Йемене, Эфиопии и Сомали; за пределами национальных границ РФ ВМФ располагает пока только двумя пунктами МТО (Тартус, Сирия, и частично Камрань, Вьетнам), испытательным пунктом на оз. Иссык-Куль (Киргизия) и тремя зарубежными узлами связи (Вилейки, Белоруссия, Бишкек, Киргизия, и Гавана, Куба) главного штаба ВМФ с кораблями в океане на боевой службе.
Реальные возможности воссоздания морской силы страны, практического строительства современного морского флота, военно-политической компоненты государства заложены в Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной 27 июня 2001 г. президентом РФ В.В. Путиным. Она содержит основные направления морской политики РФ, задачи разработки и принятия единой государственной программы военного кораблестроения и судостроения и положения о развитии морских сил в рамках системы национальной безопасности РФ. Воссоздание мощи флота России является важнейшей задачей страны с учетом последних событий в мире (войны в Ираке и Ливии, события в ряде стран Северной Африки, попытки дестабилизации обстановки в Сирии и др.) и развития военно-морских сил и военного кораблестроения ведущих капиталистических стран [5, 9].
Список литературы Роль и задачи Военно-морского флота советского государства в мирное время
- Агафонов Г. Потенциал флотов стран Азиатско-Тихоокеанского региона//Морской сб. 2003. № 2. С. 72-77.
- Агафонов Г. Состояние разграничения морских пространств между Россией и США в Чукотском и Баренцевом морях//Морской сб. 2002. № 12. С. 26-34.
- Васюков В. Военно-морской флот и обеспечение национальной безопасности страны в мирное время//Морской сб. 2003. № 1. С. 22-31.
- Луценко В.Т., Прохоров В.И., Восковщук Н.И. Морская доктрина и флот Российской Федерации (по материалам публикаций)//Исследования по вопросам повышения эффективности судостроения и судоремонта: сборник. Владивосток: ДВГТУ, 2010. Вып. 48. С. 70-91.
- Моисеенков О. Бюджет и возможные варианты строительства ВМС США в 2001-2020 гг.//Морской сб. 2001. № 4. С. 62-66.
- Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 г.: утв. 27 июня 2001 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным//Судостроение. 2001. № 6. С. 9-12; 2002. № 1. С. 9-11.
- Судостроение. 1973. № 1. С. 16-23; 1974. №1. С.12-18; 1975. № 1. С. 18-25; 1976. № 1. С. 17-24; 1977. № 1. С. 18-23; 1978. № 1. С. 17-23; 1979. № 1. С. 17-23; 1980. № 1. С. 17-21; 1981. № 1. С. 7-13; 1982. № 3. С. 9-19; 1983. № 5. С. 9-18; 1984. № 4. С. 10-20; 1985. № 6. С. 7-19; 1986. № 8. С. 7-19; 1987. № 8. С. 6-14; 1988. № 9. С. 10-20; 1989. № 9. С. 8-17; 1990. № 10. С. 6-16.
- Саенко П. Военно-морской флот России как фактор мирного разрешения политических конфликтов на Тихом океане//Морской сб. 2004. № 4. С. 29-36.
- Смоловский А. Факторы нестабильности и рисков в операционной зоне Тихоокеанского командования ВС США//Морской сб. 2005. № 2. С. 70-77.