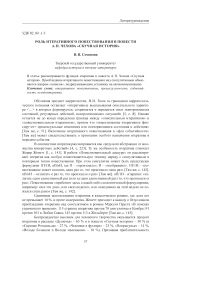Роль итеративного повествования в повести А. П. Чехова "Скучная история"
Автор: Семенова Нина Васильевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается функция итератива в повести А. П. Чехова «Скучная история». Преобладание итеративного повествования над сингулятивным объясняется жанром «записок», подразумевающим установку на автокоммуникацию.
Итеративное повествование, процессуальность, событийность, псевдоитератив
Короткий адрес: https://sciup.org/146281503
IDR: 146281503 | УДК: 82.161.1-3
Текст научной статьи Роль итеративного повествования в повести А. П. Чехова "Скучная история"
Обозначая предмет нарратологии, В. И. Тюпа за границами нарратологи-ческого познания оставляет «итеративные высказывания описательного характера <…> в которых формируется, сохраняется и передается опыт повторяющихся состояний, регулярных действий, воспроизводимых ситуаций» [5, с. 8]. Однако остается не до конца определена граница между «описательным итеративом» и «повествовательным итеративом», притом что «повествование итеративное фик-сиру<ет> процессуальные изменения или повторяющиеся состояния и действия» [Там же, с. 51]. Включение итеративного повествования в «фон событийности» [Там же] может свидетельствовать о признании особого назначения итератива в передаче события.
В лингвистике итератив рассматривается как «результат абстракции от множества конкретных действий» [4, с. 223]. Ту же особенность итератива отмечает Жерар Женетт [1, с. 141]. В работе «Повествовательный дискурс» он рассматривает итератив как особую повествовательную технику наряду с сингулятивным и повторным типом повествования. При этом сингулятив может быть представлен формулами 1П/1И, n П/ n И, где П - «произошло», И - «изображено». 1П/1И - «повествование может излагать один раз то, что произошло один раз» [Там же, с. 145]. n П/ n И - «излагать n раз то, что произошло n раз» [Там же]. n П/1И - итератив: «излагать один единственный раз (или за один единственный раз) то, что произошло n раз». Повествование «прибегнет здесь к какой-либо силлептической формулировке, например: «все эти дни», или «всю неделю», или «ежедневно на этой неделе он ложился спать рано» [Там же, с. 142].
Сравнивая использование итератива в классическом романе, где доля его не превышает 10 %, и прозе модернизма, Женетт приходит к выводу о безусловном преобладании итератива над сингулятивом в романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени»: 115 страниц итератива против 70 сингулятива в Комбре; 91 против 103 в Любви Свана; 145 против 113 в Жильберте [Там же, с. 145].
Беспрецедентно высоким для чеховского творчества оказывается процент итератива в рассказе «Душечка» – 63 % и в повести «Скучная история» – 50 % (в «Скрипке Ротшильда» – 27 %, «Человеке в футляре» – 23 %, «Попрыгунье» – 14 %, «Володе большом и Володе маленьком» – 10 %). Признавая приблизительность этих показателей («точность здесь невозможна» [Там же]), можно предположить, что полученный результат зависит не столько от техники подсчета (количество страниц у Женетта или количество знаков у автора этой статьи), сколько от сложности определения границ итератива, образующего в ряде случаев смешанные формы с сингулятивным повествованием.
В повести «Скучная история» ритм повествования определяется далеко не всегда чередованием сингулятивных и итеративных фрагментов. В первых четырех главах доминирует итератив, в пятой и шестой – сингулятив. Преобладание итератива можно объяснить исходя из подзаголовка, обозначающего первичный речевой жанр, на который ориентировано произведение: «Скучная история. Из записок старого человека». Записки как первичный речевой жанр пишутся для себя, это фиксация повседневного опыта, размышления о пережитом. Так же и тексты, построенные на основе итеративных высказываний, «по своей интенции автоком-муникативны <…> коммуникативный акт сообщения кому-либо номотетических (законосообразных) обобщений по отношению к их референтному содержанию факультативен» [6, с. 9]. Речь идет о том, что рассказ о повторяющихся событиях не может быть интересен собеседнику и не порождает коммуникативной ситуации.
В повести профессор медицины, Николай Степанович, знающий о своей смертельной болезни, в последние месяцы жизни пытается разрешить для себя бытийные вопросы – найти «общую идею». С главным героем не происходит ничего замечательного, напротив, он постоянно осознает рутинность существования. В терминах нарратологии такой опыт определяется как процессуальный – «опыт узнаваемого повторения ситуаций» [5, с. 7], а не событийный.
Первая глава построена как цепочка итеративных эпизодов. Рассказ о бессоннице, которая «составляет теперь главную и основную черту <…> существования» [9, с. 252], ведется итеративом с единственным сингулярным сегментом: «Если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так, недавно в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием “О чем пела ласточка”» [8, с. 254]. Итеративный эпизод – утренний разговор профессора с женой, где среди сигналов итератива преобладают слова со значением цикличности: «всякий раз говорит одно и то же» [Там же]; «каждое утро одно и то же» [8, с. 255]; «ежедневный опыт мог бы убедить жену» [Там же, с. 255]. Итеративом передан и разговор с дочерью; знаком итератива выступает здесь слово обыкновенно со значением узуальности:
«Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал:
– Сливочный… фисташковый… лимонный…
И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу: “фисташковый… сливочный… лимонный…”» [Там же, с. 256].
Итеративом дается рассказ о чтении лекций в университете. Здесь рассказчик два раза делает оговорку, отмечая вариативность некоторых ежедневных действий, что только подчеркивает повторяемость и регулярность всех остальных.
«Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распахивается и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка швейцар Николай. Впустив меня, он крякает и говорит:
– Мороз, ваше превосходительство!
Или же, если моя шуба мокрая, то:
– Дождик, ваше превосходительство!» [Там же, с. 258].
«И мы шествуем в таком порядке: впереди идет Николай с препаратами или с атласами, за ним я, а за мною, скромно поникнув головою, шагает ломовой конь; или же, если нужно, впереди на носилках несут труп, за трупом идет Николай и т. д.» [Там же, с. 261].
Вторую главу характеризует не только преобладание итеративного повествования, но и особый его характер. Визит коллеги, приход на дом к профессору студента, не сдавшего экзамен, докторанта, желающего получить тему диссертации, как отмечает и сам рассказчик, не обязательно являются приметой одного дня: «Звонки могут следовать один за другим без конца, но я здесь ограничусь только четырьмя» [Там же, с. 268]. «Сингулятивная сцена у Пруста подвержена как бы заражению итеративом», – пишет Женетт [1, с. 147]. У Чехова наоборот: итеративная сцена подвержена «как бы заражению сингулятивом». Во втором случае исследователь говорит о весьма характерном присутствии того, что он называет «псевдоитеративом» – «сцен, поданных как итеративные, тогда как вследствие богатства и точности деталей никакой читатель не может всерьез поверить, чтобы они происходили несколько раз без каких-либо изменений» [Там же]. Псевдоитератив Женетт понимает как «…типичную фигуру нарративной риторики, которую не следует понимать буквально, а как раз наоборот: повествование, буквально утверждающее: “это происходило все время” следует понимать фигурально: “все время происходило нечто в этом роде, одной из реализаций которого является изображаемое событие”» [Там же]. В повести Чехова в ряде эпизодов то, что происходило однажды, воспринимается как совершающееся постоянно. Очевидно, например, что приемная дочь профессора Катя не каждый день показывает Николаю Степановичу устроенный для него уютный кабинет и предлагает приходить и работать у нее. Не всегда жена и дочь после ухода Кати сетуют на то, что она пренебрегает ими, и т. д. Псевдоитератив у Чехова функционально ничем не отличается от сингулятивных вставок, маркированных в тексте специально. Таков эпизод, где Николай Степанович расписывается в своей ненависти и презрении к жениху дочери Гнеккеру:
«Увлекшись злым чувством я часто (сигнал итератива со значением интервала. – Н. С.) говорю просто глупости и не знаю, зачем говорю их. Так случилось однажды (знак сингулятива. – Н. С.), я долго глядел с презрением на Гнеккера и ни с того ни с сего выпалил:
Орлам случается и ниже кур спускаться,
Но курам никогда до облак не подняться…» [8, с. 296].
О явлении повторяемости эпизодов в рассказах Чехова писал А. П. Чудаков. Не используя нарратологические подходы, Чудаков по существу дал описание «псевдоитеративных» сцен в рассказе Чехова «Попрыгунья», которые он называет «характеристическими эпизодами» [9, с. 145]. Этот принцип построения используется и в «Скучной истории». Бесконечная повторяемость ситуаций, разговоров создает эффект бесперспективности жизни, а история, рассказанная сингулятивом (поездка главного героя в Харьков) по существу ничего не меняет.
Можно предположить, что особая значимость итеративных эпизодов свидетельствует об ослаблении событийности в рассказах Чехова. Это явление разные исследователи объясняют невыделенностью события из полного случайностей жизненного потока [Там же, с. 146, 163, 165, 167 и др.]; «общим чеховским мироощущением, в частности ощущением безвыходности большинства жизненных ситуаций, находящихся в тисках застойности быта и социальной неподвижности» [3, с. 242].
Отмечая особый характер «бессобытийности» в «Скучной истории», В. Я. Линков говорит по существу о ментальном событии. На вопрос: «Как же движется мысль героя и что она открывает?» – дается следующий ответ. Событие – это путь «от сознания героем противоречия между знаменитым именем и подлинной своей сущностью и открытия, что собственная семья стала чужой, до понимания, что нет и желания ее вернуть и страха перед своим равнодушием» [2, с. 62]. На наш взгляд, судить о наличии события в повести затруднительно ввиду того, что не установлены критерии разграничения «рефлексии ментальных процессов» – итеративного опыта и «рефлексии ментальных событий» – сингулярного опыта [5, с. 7]. Увидеть в финале «неожиданную просветленность» [2, с. 71] можно только не принимая во внимание заглавие повести «Скучная история». Е. Червинскене, отмечая, что слова скучно, скука, скучный в произведениях Чехова встречаются особенно часто, указывает и на их негативную коннотацию, сопряженную с отсутствием «высших целей» [7, с. 116] («общая идея» у Чехова). В этом случае приходится говорить об открытом финале и оказывается под вопросом такой обязательный признак события, как «фрактальность» – «наличие начала и конца рассказываемого отрезка жизни» [Там же, с. 16]. Особая же роль итератива в «Скучной истории», возможно, определяется тем, что мысли об отсутствии «общей идеи» являются через осознание процессуальности жизни.
THE ROLE OF ITERATIVE NARRATION
Tver State University the Department of History and Theory of Literature
Список литературы Роль итеративного повествования в повести А. П. Чехова "Скучная история"
- Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике: в 2 т. Т. 2. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1998. С. 308-434.
- Линков В. Я. Художественный мир прозы А. П. Чехова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 128 с.
- Мелетинский Е. М. Историческая поэтика новеллы. М.: Наука, 1990. 278 с.
- Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М.: Наука, 1985. 272 с.
- Тюпа В. И. Введение в сравнительную нарратологию. М.: Intrada, 2016. 145 с.
- Тюпа В. И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А. П. Чехова). Тверь: Тверской гос. ун-т, 2001. 58 с.
- Червинскене Е. Единство художественного мира. А. П. Чехов. Вильнюс: Мокслас, 1976. 184 с.
- Чехов А. П. Собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 7. М.: Наука, 1985. 736 с.
- Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971. 292 с.