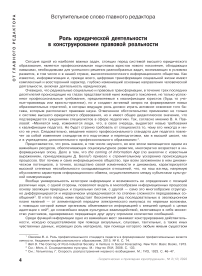Роль юридической деятельности в конструировании правовой реальности: вступительное слово главного редактора
Автор: Разуваев Н. В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Статья в выпуске: 2 (12), 2022 года.
Бесплатный доступ
ID: 14124292 Короткий адрес: https://sciup.org/14124292
Текст ред. заметки Роль юридической деятельности в конструировании правовой реальности: вступительное слово главного редактора
Сегодня одной из наиболее важных задач, стоящих перед системой высшего юридического образования, является профессиональная подготовка юристов нового поколения, обладающих навыками, необходимыми для успешного решения разнообразных задач, возникающих в условиях развития, в том числе и в нашей стране, высокотехнологичного информационного общества. Как известно, информатизация и, прежде всего, цифровая трансформация социальной жизни имеют комплексный и всесторонний характер, глубоко изменивший основные направления человеческой деятельности, включая деятельность юридическую.
Очевидно, что радикальные социальные и правовые трансформации, в течение трех последних десятилетий происходящие на глазах представителей ныне живущего поколения, не только усложняют профессиональные требования, предъявляемые к квалификации юристов (будь то ученые-правоведы или юристы-практики), но и создают активный запрос на формирование новых образовательных стратегий, в которых ведущую роль должно играть активное освоение того багажа, которым располагает правовая наука. Отмеченное обстоятельство применимо не только к системе высшего юридического образования, но и имеет общее дидактическое значение, что подтверждается суждениями специалистов в сфере педагогики. Так, согласно мнению В. А. Павловой: «Меняется мир, изменяются люди, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к квалификации педагога. Но будет странно требовать от специалиста то, чему его никогда и никто не учил. Следовательно, введение нового профессионального стандарта для педагога повлечет за собой изменение стандартов его подготовки и переподготовки, как в высшей школе, так и в учреждениях дополнительного профессионального образования»1.
Представляется, что роль знания, в том числе научного, во все эпохи являющегося одним из важнейших ресурсов, обеспечивающих социокультурное развитие, многократно возрастает в информационную эпоху. Дело в том, что the coming of Information Age (по аналогии с известным выражением, принадлежащим Д. Беллу2) привело к стремительному ускорению происходящих процессов. Вот почему и само информационное общество, при всем заложенном в нем динамическом потенциале, а точнее, вследствие своей изменчивости и динамизма, характеризуется высокой степенью нестабильности складывающихся отношений, что, на наш взгляд, напрямую обусловлено характером информационного обмена, осуществляемого между субъектами культурной коммуникации.
Вообще универсальность категории информации и возможность ее определения с позиций различных наук, с одной стороны, позволяют видеть в многообразии информационных процессов основу эволюции природных и социальных систем, с другой — само это многообразие структурно дифференцируется и иерархически упорядочивается по степени сложности передаваемых со-общений3. В итоге перед нами предстает бесконечный ряд последовательных в эволюционном плане явлений — от элементарной передачи электрического импульса по нервным волокнам, с помощью которой живые организмы обмениваются информацией с внешней средой с целью адаптации к ней4, до сложнейших видов культурных взаимодействий, включающих в себя множество участников, одновременно передающих друг другу огромное количество сообщений.
Среди функций информации одно из важнейших мест занимает конструирование действительности, исходно осуществляемое при помощи визуальных, слуховых, тактильных, а также иных чувственных данных, играющих роль материала, при помощи которого любым живым существом создается картина, определяющая конкретные модели поведения, а также способы упорядочения и освоения объектов внешнего мира. Естественно, картина мира, о которой идет речь, не должна представляться упрощенно, по аналогии с «мировоззрением», неотъемлемо принадлежащим человеку как мыслящему существу.
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Уже в начале минувшего столетия некоторые биологи, прежде всего Я. Икскюль, обратили внимание на то обстоятельство, что свой образ реальности имеется у любого организма, причем такой образ в той или иной мере обусловлен видовым своеобразием соответствующего биологического существа5. По мере развития эволюционной и поведенческой биологии, в немалой степени стимулированной исследованиями Икскюля и его немногочисленных последователей, стало ясно, что всякий организм, во-первых, представляет собой целостность, жизнедеятельность которой обеспечивается информационным обменом на уровне нервных клеток, играющим для поддержания указанной целостности роль, никак не меньшую, чем обмен веществ. Во-вторых, организм, будучи аутопоэзной системой, независим от внешней среды, то есть информация, которой он располагает, порождается исключительно внутренними корреляциями элементов самой системы. Наконец, в-третьих, реакция организма на стимулы, исходящие извне, есть также результат действия аутопоэзной структуры, своеобразным продолжением которой служит образ внешнего мира, оптимально соответствующий биологическим и психофизиологическим особенностям устройства данного организма. Таким образом, у животных, начиная с наиболее примитивных, любые поведенческие реакции на внешние стимулы становятся неким ответом, способствующим накоплению внутренней информации организма и тем самым усложнению его нейронной структуры, позволяющих совершенствовать поведенческие реакции, конституирующие внешнюю среду6.
Иными словами, уже в живой природе поведенческие реакции служат средствами не только своеобразного познания, но и конструирования внешнего мира, осуществляемого параллельно самоконституированию живого организма как такового7. В человеческом мире эти биологические предпосылки познания не только получают свое развитие, но и качественно трансформируются под влиянием бытийных свойств человеческого существа. Будучи «символическим животным», человек вместе с тем располагает принципиально иными реакциями на стимулы внешнего мира и, как следствие, особыми знаково-символическими инструментами конструирования реальности. Как писал Э. Кассирер: «По сравнению с другими животными человек живет не просто в более широкой реальности — он живет как бы в новом измерении реальности. Существует несомненное различие между органическими реакциями и человеческими ответами. В первом случае на внешний стимул дается прямой и непосредственный ответ; во втором — ответ задерживается, прерывается и запаздывает из-за медленного и сложного процесса мышления»8.
Своеобразной компенсацией поведенческих особенностей, присущих человеку как живому существу особого рода, выступает специфически человеческий опыт знакового кодирования информации, создающего условия для той «естественной искусственности» человека, которая являлась предметом ряда исследований9. Если организм как аутопоэзная система самоконституиру-ется посредством нервных клеток, по которым передаются импульсы, сообщающие животному информацию, в том числе об окружающем мире, то человек конструирует не только план своей физической телесности, но и собственный интеллектуально-духовный план. Для того чтобы убедиться
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
в справедливости сказанного, необходимо иметь в виду, что эта самоконститутивность человеческого существа проявляется уже на самом первичном уровне, на уровне «чистого я », о котором ведется так много, по большей части бесплодных, философских дискуссий.
Между тем, отвечая на вопрос, что представляет собой это чистое Ego , необходимо прибегнуть к так называемой феноменологической редукции10, позволяющей «вынести за скобки» все принадлежащие внешнему миру фактические (биофизиологические, психологические, социальные и прочие) данные, из которых формируется человеческая личность во всей ее полноте и конкретности. Как следствие, обнаруживается, что «чистое я » не является совокупностью физиологических процессов, эмоций, мыслей, не является оно и результатом воспитания или хабитуальных навыков индивида. Эйдетически «чистое я » представляет собой просто то местоположение в пространстве, которое маркирует каждого человека как самость , в противоположность всему тому, что онтологически предстоит ему в качестве объектов, составляющих содержание индивидуальной реальности (в том числе чувствам, мыслям, восприятиям феноменов внешнего мира и т. п.). Проще говоря, «чистое я » есть центрированное пространство, единственное и уникальное место, занимаемое каждым из нас.
Из этой точки в пространстве, маркирующей эйдетическое «чистое я », развертывается как самоконституирование внутреннего мира человека и многообразных психологических феноменов, составляющих его содержание, так и конструирование внешней реальности, осуществляемое исходно при помощи эмпирических восприятий, ментально упорядочиваемых сознанием в виде более или менее стабильных объектов и закрепляемых посредством знаково-символических форм. Знаки, таким образом, играют ведущую роль в качестве средств конструирования реальности, а также организации индивидуального опыта и его трансляции другим субъектам. При помощи знаков, следовательно, феномены, имеющие чисто субъективную релевантность, приобретают интерсубъективный характер11, становясь предметами коммуникативного социального взаимодействия.
Именно благодаря коммуникации знаково-символические формы становятся основными средствами конструирования различных видов реальности, в том числе реальности социокультурной и юридической. Если бы окружающий мир, явленный каждому из нас в чувственных восприятиях, оставался бы достоянием только субъекта, его внутренней картины реальности, как это происходит у животных, то, по всей видимости, феномены этой реальности не нуждались бы в знаковом опосредствовании. Однако человек есть не просто существо символическое, его коммуникативные навыки помогают экстернализовать содержание внутреннего мира каждого из нас, придавая его феноменам интерсубъективное значение в рамках коммуникативного взаимодействия.
Итак, деятельность индивидов, их коммуникативное взаимодействие, реализуемое в разнообразных знаково-символических формах, конструирует интерсубъективную социальную реальность, делая ее общим достоянием участников коммуникации, благодаря достигнутым этими последними исходным конвенциям, обеспечивающим взаимопонимание. Таким образом, благодаря экс-тернализации внутреннего опыта в деятельности субъектов, в их знаковой коммуникации, обеспечиваются и социальный порядок, и порядок правовой12.
На неразрывную причинно-следственную связь социальных порядков с человеческой деятельностью обращает особое внимание А. В. Поляков, по словам которого: «Откуда берется человеческий порядок? Он существует лишь как продукт человеческой деятельности, поскольку создается человеком в процессе непрерывного человеческого производства, которое называют экс-тернализацией. Человеческое существование невозможно в закрытой сфере внутреннего бездействия. Человек должен непрерывно экстернализировать себя в коммуникативной деятельности. Эта антропологическая необходимость коренится в биологии человека. Внутренняя нестабильность человеческого существования вынуждает его к тому, чтобы человек сам обеспечивал стабильное окружение для своего поведения»13.
Таким образом, различные виды человеческой деятельности выступают стержнем соответствующих видов реальности, включая реальность правовую, в основе которой лежит деятельность юридическая. Под юридической деятельностью мы понимаем совокупность релевантных действий субъектов правового общения по производству специфически правовых смыслов и облечению этих смыслов в знаково-символические формы, используемые для передачи информации о социальной реальности. Полагаем, было бы ошибкой считать правовую реальность чем-то, по сущности своей отличающимся от иных видов реальности, также «сущностно» обособляемых друг от друга. Объектом освоения в ходе юридической деятельности выступает общая для всех реальность, включающая в себя феномены, наполняемые участниками коммуникации различным (экономическим, политическим, правовым, культурным и прочим) смыслом. Следовательно, реальность как универсальное знаковое пространство не дифференцируется на регионы, выделяемые по большей части лишь умозрительно. Различаются только виды деятельности, продуцируемые ими смыслы, а также те семиотические комплексы, при помощи которых реальность конструируется.
СТАТЬИ
Сказанное относится и к юридической деятельности, имеющей, подобно иным видам последней, коммуникативную природу. Коммуникация в правовой сфере (и, следовательно, юридическая деятельность в целом) может быть представлена как особый механизм текстопорождения, причем в качестве юридических текстов выступают не только законы, как может показаться на первый взгляд, но и любые акты юридически значимого поведения, как облеченные в письменно-документальную форму, так и не облеченные в нее14. Внутренняя структурированность юридической деятельности, включающей в себя как различные виды деятельности профессиональной, а именно правотворческой и правоприменительной, так и непрофессиональную юридическую деятельность, направленную на приобретение и реализацию субъективных прав, а также исполнение обязанностей, является первопричиной многообразия юридических текстов, совокупность которых структурирует семиотическое пространство правовой реальности.
Важное место в структуре юридической деятельности занимает научное познание, выступающее не только как особый вид юридически значимого поведения, но и как онтологический фундамент для всех прочих его видов. Значение научного юридического познания поистине трудно переоценить, ибо оно не просто организует уже имеющуюся правовую информацию, придавая ей те или иные символические формы, но и порождает новую информацию, обеспечивая тем самым динамику правовой реальности, расширение ее пространства и вовлечение в него все новых культурных феноменов. Таким образом, научное познание выступает не просто основным средством конструирования правовой реальности в синхронном измерении, но и важным фактором ее эволюции в диахронной ретроспективе15.
Возвращаясь к теме, прозвучавшей в самом начале, можно констатировать, что в условиях становления информационного общества и соответствующего ему типа правопорядка формируются и новые виды юридической деятельности, оперирующие качественно новыми знаковыми формами, конституирующими те феномены, которые не имели аналогов в правопорядках прошлого, включая даже самое недавнее прошлое. К числу таких феноменов относятся цифровые объекты, а также цифровые права, природа которых требует своего глубокого осмысления. Представляется, что та нестабильность социального и правового порядка, о которой шла речь ранее, во многом обусловлена новизной и нестандартностью складывающихся фактических ситуаций, ставящих перед юридической наукой задачи, требующие своего решения.
В работах авторов, размещенных в настоящем выпуске журнала «Теоретическая и прикладная юриспруденция», содержится попытка постановки проблем, представляющих особую актуальность в сложившихся условиях. Несложно заметить, что многообразие тематики публикаций отражает структуру современного юридического знания, восходящего от философско-правовых обобщений и историко-юридических исследований к исследованию частных, но весьма насущных вопросов, от решения которых во многом зависит эффективность профессиональной юридической деятельности, сообщающей импульс к развитию правопорядка и правовой реальности.
Разуваев Николай Викторович, главный редактор