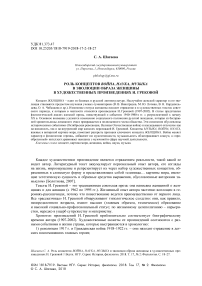Роль концептов война, наука, музыка в эволюции образа женщины в художественных произведениях И. Грековой
Автор: Шагаева Светлана Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Концепт ЖЕНЩИНА - один из базовых в русской лингвокультуре. Неслучайно женский характер и его эволюция становятся предметом изучения ученых-гуманитариев (В. В. Виноградов, М. Ю. Лотман, В. Н. Кардапольцева, О. А. Чибышева и др.). Изменение статуса женщины находит отражение и в художественных текстах советского периода, к которым в частности относятся произведения И. Грековой (1907-2002). В статье представлен филологический анализ женской прозы, повествующей о событиях 1940-1980-х гг. с ретроспективой к началу XX в. Основное внимание уделяется изменению социального положения русской женщины, которая из бесправной хранительницы домашнего очага превращается в полноценного члена общества. Эти изменения обусловлены историческими событиями (Октябрьская революция, Великая Отечественная война) и накладывают отпечаток как на внешность, так и на внутренний мир женских персонажей И. Грековой. Концепты МУЗЫКА, ВОЙНА, НАУКА, важные в авторской картине мира, помогают раскрыть признаки ключевого концепта ЖЕНЩИНА. Война меняет характер и физиологию героинь, добавляет им мужественности, музыкальность облагораживает социум, а «приобретенный» интеллект уравнивает женщину с мужчиной в сфере научной деятельности.
Концепт, картина мира, женщина, война, наука, музыка
Короткий адрес: https://sciup.org/147219904
IDR: 147219904 | УДК: 81.373.47 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-2-18-27
Текст научной статьи Роль концептов война, наука, музыка в эволюции образа женщины в художественных произведениях И. Грековой
Каждое художественное произведение является отражением реальности, такой какой ее видит автор. Литературный текст аккумулирует персональный опыт автора, его взгляды на жизнь, мироощущение и репрезентирует их через набор художественных концептов, обрамленных в словесную форму и представляющих собой «единицы… картины мира, имеющие эстетическую сущность и образные средства выражения, обусловленные авторским замыслом» [Болотнова, 2007].
Тексты И. Грековой – это традиционная советская проза: она написана женщиной о женщинах и для женщин (с 1962 по 1995 гг.). Жизненный опыт автора частично воплощен в героинях-рассказчицах, потому что повествование ведется преимущественно от первого лица. Все «рассказчицы» И. Грековой обнаруживают типологическое сходство: они, как правило, неопределенного возраста, имеют высшее (главным образом, техническое) образование и высокий социально-профессиональный статус; по жизненному целеполаганию – карьеристки, нередко в ущерб супружеству и материнству.
Хронотоп произведений И. Грековой приблизительно соответствует биографическому времени автора (1907-2002). Художественные сюжеты ее произведений соотносятся с разными событиями в жизни страны, которые выстраиваются в хронологию:
-
1) революция 1917 г. и Гражданская война 1918–1922 гг. – они находят отражение в детских воспоминаниях главных героев;
Шагаева С. А. Роль концептов ВОЙНА , НАУКА , МУЗЫКА в эволюции образа женщины в художественных произведениях И. Грековой // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 2: Филология. С. 18–27.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2018. Том 17, № 2: Филология
-
2) Великая Отечественная война (1941–1945) – это суровое время, когда формируются и «закаляются» характеры персонажей;
-
3) послевоенный период, «отравленный» негативными последствиями войны, массовой гибелью мужчин, которых вынужденно и повсеместно (т. е. во всех сферах: семья, промышленное производство, восстановление страны из руин) «замещают» одинокие женщины-матери.
Базовым концептом прозы И. Грековой, безусловно, является концепт ЖЕНЩИНА , трансформированный в художественном пространстве в соответствии с индивидуальной (авторской) картиной мира. Героини И. Грековой – это женщины науки , профессиональные интеллектуалки / квалифицированные работницы интеллектуального фронта; матери , занимающиеся воспитанием детей; жены , беспрекословно подчиняющиеся воле мужей; вдовы , на долю которых выпала задача восстановления страны в послевоенное время.
Концепт ЖЕНЩИНА , наряду с концептами МУЖЧИНА и ЧЕЛОВЕК , является одним из базовых в любой лингвокультуре, что отчасти объясняется антропоцентризмом языка и культуры: люди на протяжении веков пытаются осознать и обозначить языковыми средствами себя как часть мира и социума. В русской лингвокультуре данный концепт имеет особое значение. Неслучайно в его номинативном поле объективируются самые разные характеристики женщины: внешность (ее биологические особенности, возраст, внешний вид, сексуальная привлекательность), внутренний мир (психологические характеристики, морально-нравственные качества, интеллектуальные способности) и положение в социальной иерархии индивидов (семья, окружение, а также социально значимая деятельность) [Чиби-шева, 2005].
Исторические трансформации концепта обусловлены изменением правового статус-кво женщины. В диахронии образ женщины отождествлялся с «хтоническим чудовищем» и «воплощением хаоса» (Лотман, цит. по: [Кардапольцева, 2000]), с одной стороны, с другой – с богиней плодородия и матерью-землей. На синхронном отрезке, отраженном в прозе И. Грековой (1940–1980-е гг.) «женщина-функция» (бесправная хозяйка, хранительница очага) стала вполне самостоятельной и равной мужчине.
Изучение различных культурных фактов позволяет констатировать «двойственность» образа женщины как специфическую константу. В отечественных и зарубежных исследованиях представлено множество классификаций женских образов на материале разных национальных культур. В. Н. Кардапольцева в монографии «Женские лики России» [2000] дает обзор типологий Ю. М. Лотмана, Н. К. Нунана, а также предлагает собственную – на основе анализа произведений (живописи и литературы) русской культуры.
По мнению В. Н. Кардапольцевой, все женские образы более или менее строго можно разделить на три типа, каждому из которых соответствует определенный набор признаков:
-
1) традиционные женщины – добрые, радушные, хлебосольные хозяйки, альтруистичные, способные жертвовать собой во имя другого человека (как правило, мужчины – отца, мужа, сына), часто несчастные, с трудной судьбой;
-
2) героини – отчаянные и самозабвенные женщины, проявляющие максимальную жертвенность в сложных жизненных ситуациях (например, на войне), в мирное время ни в чем не уступают мужчинам (поэтому граница между мужским и женским началом стирается), проявляют деловые качества, могут быть властными и авторитарными; женщин-героинь часто называют трудяга , работяга , свой парень , полумужчина ;
-
3) демонические женщины , музы – внешне прекрасные представительницы слабого пола, которые часто поступают наперекор логике, не следуют общепризнанным правилам, являются разрушительницами судеб, им опасно доверять [Кардапольцева, 2000].
В «прокрустово ложе» этой типологии, по признанию исследователя, строго не укладывается ни один художественный (шире культурный) образ русской женщины. Выделенные типы скорее описывают доминантные черты, оставляя за скобками частности. Универсальность предложенной В. Н. Кардапольцевой классификации подтверждается тем, что художественные образы женщин, воплощенные И. Грековой, соответствуют выделенным типам или соединяют их черты.
В ходе проведенного филологического анализа текстов И. Грековой было установлено, что концепт ЖЕНЩИНА является ключевым для прозы автора, хотя «женская тема» вынесе- на в заглавие только в двух ее произведениях: «Хозяйка гостиницы» (1975) и «Вдовий пароход» (1981), а также имеет косвенную отсылку в названии повести «Дамский мастер» (1962).
Наряду с концептом ЖЕНЩИНА в повестях и рассказах И. Грековой не менее значимы и другие – ВОЙНА , НАУКА и МУЗЫКА . Военные события обусловили основные черты женщин этого времени – сильных, мужественных, работоспособных, – которые воплощены в художественных образах И. Грековой. Научная деятельность обусловливает социальную роль героинь, их равенство мужчине по интеллекту и степени отдачи работе, «долгу службы». Отношение к музыке (профессиональное или любительское, трепетно-любовное или сугубо отрицательное) свидетельствует об определенных внутренних качествах героинь. Такая связь обусловливает возможность анализа концепта ЖЕНЩИНА через призму названных концептов.
Исторический контекст во многом определяет характер литературных персонажей. Для произведений И. Грековой таким контекстом являются Октябрьская революция, Гражданская война, Великая Отечественная война и послевоенный период, которые формируют своеобразную «историческую ось». Она, в свою очередь, обусловливает типологические черты женских персонажей, которые можно соотнести с определенными культурно-историческими типами (по классификации В. Н. Кардапольцевой).
Так, героини дореволюционного периода воплощаются в образах традиционного типа . На передний план выходит их социальная роль – функция жены, хозяйки дома и матери. В этой роли женщина проявляет жертвенную самоотдачу по отношению к детям и мужу: она занимается бытовыми проблемами и воспитанием детей. Отметим, что в прозе И. Грековой «традиционные женщины» не имеют строгой социальной маркированности: они встречаются в интеллигентской, рабочей и крестьянской среде. И если социальный статус обусловлен их положением в кругу семьи (мать, жена, хозяйка) и ограничен им же, то внутренний мир и внешность этих героинь от данного фактора не зависят.
«Интеллигентные» матери отличаются утонченной красотой (они стройны и изящны) и физической слабостью. По своим способностям и «предназначению» они близки к литературному типу барышень XIX столетия: они начитанны, имеют музыкальный слух, поют, играют на музыкальных инструментах, дают уроки. Главная обязанность такой матери – домашнее воспитание и образование детей.
Присутствие в доме инструмента (рояля или пианино) становится маркером высокого социального статуса семьи (если в доме есть пианино, значит, хозяева – буржуи ). В обязательный репертуар для музыкальных занятий входит классика ( Чайковский , Бетховен , Бах и др.), без которой невозможно воспитать ребенка как «гармонично развитую личность».
Эти женщины буквально живут музыкой и даже сравнимы с нею по красоте, легкости, а также ценности в жизни человека: Сравнить музыку можно было только с мамой . Маму он любил бесконечно («Фазан», 1984). В круг домашних традиций входит семейное пение, танцы и сочинительство собственных мелодий с причудливыми и замысловатыми мотивами: мотив с завитушками («Фазан», 1984). В интеллигентной семье мать создает уютную домашнюю атмосферу, она – «смеющийся дух», душа семьи, ее муза и вдохновение.
В рабочей семье женщина – существо, напротив, приземленное и придавленное заботами. Ее портрет более натуралистичен. Материнство и одновременно тяжелый физический труд уродуют внешность женщины: тяжелая , подурневшая ; большой , неудобный в носке живот ; натруженные красные руки («Хозяйка гостиницы», 1975; «Вдовий пароход», 1979). В таких персонажах сочетаются признаки традиционного и « героического» типов . «Героическое», бесспорно, проявляется в мужественном характере таких женщин, в их физической выносливости. Несмотря на то что их интеллектуальные способности весьма ограничены (часто не умеют ни читать, ни писать, не обучены музыке, не разбираются в ней), «рабочие» матери занимаются детьми, передают свой жизненный опыт, поэтому учат их «выживать»: стойко переносить трудности, работать в поте лица, чтобы достичь благополучия. На таких женщинах дом (в прямом и фигуральном смыслах) держится, как на физической опоре: Видно , всю жизнь не ему меня , а мне его кормить . Стала своими трудами кормить и мужа , и себя , и дочку («Хозяйка гостиницы», 1975).
Музыка в жизни женщин-работниц тоже есть, но совсем другая: народные («Мой миленький дружок») и популярные («Светит месяц») песни, частушки, которые исполняются вжи- вую, под гитару, или звучат по радио. Инструмент, в отличие от «аристократичного» рояля, более простой, народный, гитара или балалайка, доступный и понятный простому русскому человеку. В таких семьях «звуковоспроизводящая» техника (радиоприемники, граммофоны, проигрыватели) считается предметом роскоши, а значит, маркирует простое, обывательское, отношение к музыке: она должна быть доступной: слушали, как сладко рыдал граммофон, негромко на два голоса ему подпевая («Хозяйка гостиницы», 1975).
Трагедия Великой Отечественной войны оставила неизгладимый след в характере и образе женщины, ставшей героиней военной и послевоенной прозы. С одной стороны, война практически нивелировала гендерные различия: женщины, остриженные, в тяжелых сапогах, военных шинелях и гимнастерках, с грязными лицами, внешне почти не отличаются от мужчин. С другой - женщина, несмотря на тяготы войны, остается женщиной: Во время войны женщина особенно должна за собой следить . И по линии внешности , и по линии чувства ; Эх , бабы , жидкое вы племя , хоть и геройское («Вдовий пароход», 1979). В этом проявляется амбивалентность женской натуры: соединение силы и слабости, сдержанности и эмоциональности. В общении с противоположным полом они обезоруживают женскими улыбками , стремятся, вопреки внешним обстоятельствам, устроить личную жизнь, искренне и самозабвенно любят мужчин – раненных, демобилизованных… Специфической женской чертой становится раскаяние из-за незаконно рожденных детей. Забота о них всегда ложится на плечи матери, которая, помимо мук совести за «прелюбодеяние», навлекает на себя общественный гнев и порицание за то, что «согрешила»: Ты блудила , тебе и отвечать («Вдовий пароход», 1979). Мужчин за такие связи в русском социуме не осуждают, напротив, оправдывают – война все списывает: Она там ждет , она там горюет , сопли размазывает , а меня накася выкуси , убило! Нет уж , пока живем , пускай ей будет весело , и мне весело , и тебе весело («Вдовий пароход», 1979).
Война в произведениях И. Грековой – это не столько фронтовые события, сколько жизнь в эвакуации или тылу (в Москве, Ленинграде, в маленьких сибирских поселках). В тылу, «на передовой», оказываются простые русские женщины, матери-одиночки и вдовы (новый для русской женщины социальный статус, навязанный войной). Например, в повести « Вдовий пароход» (1979) описаны судьбы пяти женщин разного происхождения, воспитания, жизненного уклада, которых судьба свела в одной коммунальной квартире и объединила общей бедой – потерей мужей. И теперь они живут одной на всех верой – в себя и свои силы, и надеются на лучшее: Муж погиб на фронте ... Еще одну прислали . Теперь у нас полная команда . В каждой комнате по вдове . Прямо не квартира - вдовий пароход («Вдовий пароход», 1979).
По военной прозе И. Грековой можно создавать коллекцию портретов русских женщин. По признаку ‘ внешность ’ не молодые и не старые , однако в неполных сорок лет их называют пожилыми , старыми , мамашами . Каждая со своими особенностями: одна - низкая , широкая к низу , похожая на шахматную фигуру ; другая - высокая женщина - полумужчина , вся из грубых сочленений , третья - крупная , в шинели , четвертая - в сущности , некрасива , но какое-то « черт меня побери » безусловно есть ; пятая - темная , с измученная лицом («Вдовий пароход», 1979).
Отрицание и осуждение всякого проявления буржуазности в послереволюционном обществе породило неодобрительное отношение к прежним идеалам женской красоты: теперь бледность, стройность и хрупкость расцениваются как физическая немощь: а уж худа - мощь загробная («Вдовий пароход», 1979). Беспощадная действительность и суровый быт требовали иного идеала женщины – живучей и физически крепкой. Изменилось представление о женской красоте: красивой стала считаться сильная полная женщина, приятная глазу , но главное - способная к тяжелому физическому труду, работящая, похожая на лошадь : высокая , крепкая , сильная , широкие бедра , плоский живот , толстоватые , но стройные ноги . да , такая , пожалуй , не умрет , трепеща («Вдовий пароход», 1979; «Хозяйка гостиницы», 1975).
Женскую натуру невозможно описывать, игнорируя ‘сексуальную привлекательность’ -нетрадиционный для русской национальной картины мира признак (грешная плоть). Мужчины оценивают женскую фигуру взглядом знатока, женщины, естественно, по причине женской слабости и темперамента («Хозяйка гостиницы», 1975) реагируют на проявления мужского внимания. И. Грекова без стеснения и фигур умолчания рассказывает обо всем, что среднестатистической русской женщине «на роду написано» (аборты, роды, грязные пеленки): Детей не было, муж не хотел, три аборта сделала, потом захирела по женской линии («Вдовий пароход», 1979).
Разрыв с буржуазными традициями русской жизни XIX ‒ начала XX в. проявляется и в изменении социального статуса (признака ‘ социальное положение ’) женщины: она теперь не ограничена территорией и рамками семьи и дома, выходит «в свет», включается в сферу производственных отношений. Языковым маркером таких перемен становится расширение списка женских профессий: традиционные занятия ‒ няня , воспитатель , учитель , санитарка , медсестра и др., соседствуют с типично мужскими ‒ монтер , сторож , дворник , рабочий завода , директор предприятия и др. По суровому случаю женщинам приходится быть героинями быта, способными не только содержать дом и воспитывать детей, но и самостоятельно решать сложнейшие как в психологическом, так и в физическом плане задачи. Они создают «суррогатные» семьи, в которых, однако, роли родителей распределяются вполне традиционно, но между женщинами: Вера привезла из родильного дома Машу с дочкой … Из нас двоих одна должна быть вроде как отцом , кормильцем семьи , а другая ‒ матерью , хозяйкой («Хозяйка гостиницы», 1975).
Революционные преобразования обусловили изменения также в отношении к интеллектуальным способностям женщины. Так, признак ‘ высшее образование ’ выделяет героиню (чаще всего «рассказчицу») из общей массы малограмотных людей. Однако признак образованности, помимо чувства уважения, вызывает у многих в окружении женщин более сильные чувства: отчуждение, непонимание и презрение (и соответствующее отношение и подходящие обращения, например, психованная интеллигенция («Вдовий пароход», 1979)). Образ жизни (занятия музыкой или литературой), интеллектуальный труд расценивается женщинами-трудягами как праздность и сибаритство, оторванность от реальности: Вот у вас высшее , а жизни не знаете («Вдовий пароход», 1979). Они считают, что у интеллигента более легкая судьба и даже горе, хоть и стыдное (рождение ребенка вне брака или смерть мужа-алкоголика), облагораживает женщину: У вас горе было тяжелое , а благородное , без стыда . А стыдное горе старит , гнетет . Вы стыдного горя не знали («Вдовий пароход», 1979).
«Два мира» русских женщин имеют разные музыкальные темы. Одни разбираются в классической музыке, слушают симфонии и различают голоса великих исполнителей, а другие оценивают эти способности как буржуазные пережитки: Радиоточку … слушает … добро бы хоть хор Пятницкого завела или частушки… а она вой замогильный слушает – скрипка не скрипка , гармонь не гармонь («Вдовий пароход», 1979). Что для образованного человека трепет и наслаждение, то для обывателя коммуналки раздражение и головная боль. Эти два лагеря объединяют только песни военных лет, которые женщин роднят, примиряют, вызывают предсказуемую реакцию – слезы: Я « Катюшу » сильно обожаю . Услышу – и плакать … Все-таки что значит образование … Рожу сына – обязательно в консерваторию отдам («Вдовий пароход», 1979).
Концепт МУЗЫКА в произведениях И. Грековой является одним из сюжетообразующих и в целом в авторской картине мира занимает особое место. И. Грекова, в отличие от своих малообразованных персонажей, придает музыкальному воспитанию детей, участию в самодеятельности, хоровому пению огромное значение. И эти идеи транслирует в своих текстах. Так, любовь к музыке И. Грекова интерпретирует как радость и жизнелюбие, как стремление к саморазвитию. Это качество человека возвышает его в нравственном смысле. Самыми нравственными и совестливыми являются женщины, которые предпочитают любой музыке классику . На втором месте – участники (участницы) самодеятельности ‒ хора, оркестра. На третьем – поклонники песен, простые слушатели.
Напротив, предательство по отношению к музыке, отказ от нее – это «знак беды» для человека, начало его деградации: Прежде она была жизнерадостна , любила шутку , музыку , книги … теперь ее словно заслонило от всего . Радио слушать она перестала … Жизнь стала преследовать ее мелкими несчастьями: она роняла вещи , теряла деньги , в магазинах ее обсчитывали («Вдовий пароход», 1979).
Помимо классической, в произведениях И. Грековой звучит и другая музыка – церковные песнопения и молитвы. Для советского атеистического мировоззрения такая музыка – «за- прещенный пережиток». Тем не менее верующие героини ее произведений втайне посещают заутрени и всенощные, ставят свечи за здравие и за упокой. И, конечно, вызывают осуждение (даже большее, чем обладательницы роялей). Их судьба и предназначение – подчиняться чужой воле: Бога, родителей, мужа. И эта черта коррелирует с психологией женщин традиционного типа: Шла замуж не по воле. Выдали меня рано за старика. Муж - то помер вскоре... Схоронила старого, а меня уже за другого сватают («Вдовий пароход», 1979). Такие женщины крайне суеверны (абажур сломался – Бог наказал за то, что рубль на свечку пожалела; ребенок орет, потому что некрещеный), анализ и критическое восприятие реальности им совершенно не свойственны. Рассказывая о церковной службе как об островке прекрасного светлого счастья в череде серых трудовых будней (огоньки свечей и пение ангельское), они пытаются пробиться сквозь собственное косноязычие и малограмотность. Однако в ситуациях, когда необходимо проводить традиционные обряды (например, похоронные и поминальные), именно такие женщины незаменимы (...и обмою, и обвою, и в гроб уложу («Вдовий пароход», 1979)).
Демонические женщины , музы в текстах И. Грековой - это прежде всего актрисы, например, опереточные . Их жизнь часто похожа на водевиль с гипертрофированными чувствами и страстями, множеством любовных романов ( трое мужей , по третьему вдова , двое первых живы , поют ) и постоянным радением о собственной красоте, которое И. Грекова описывает с иронией: Это я экспериментирую . Эрзац-хна . Война войной , а все-таки надо себя поддерживать ... Покрасилась , высохла , позеленела («Вдовий пароход», 1979).
Оперетта ‒ музыкально-комедийный жанр, доступный для восприятия (в отличие от оперы). По легкости сопоставимый с тем, как относятся актрисы к бытовым неурядицам: Но зачем унывать? Жизнь прекрасна! В ней столько радостей : музыка , любовь , природа , архитектура («Вдовий пароход», 1979). В «демонических» женщинах развито не только чувство собственного достоинства, но и самокритичность, и самоирония. Они способны стать музами не только и не столько для мужчин, сколько для самих себя, получая удовольствие от собственной красоты и таланта: Не правда ли я пикантная? Красота - это стержень духовной жизни . А какой был голос! Чистое серебро («Вдовий пароход», 1979).
Спустя одно-два десятилетия у героических женщин И. Грековой появляется шанс в полной мере проявить свои деловые качества. Главной темой художественного повествования становится социальное положение женщин, которое определяется профессиональной деятельностью. Героини И. Грековой заняты преимущественно в сфере образования. Их внешность явно «уступает» интеллекту, хотя по «женской логике» главным остается замужество, причем в этом уверены и мужчины: Он начал разглядывать аудиторию ; то , что он увидел , тоже ему сильно не понравилось , особенно некрасота девчонок ... Девчонки , многие в очках ... пришли сюда , чтобы выйти замуж . Баба-инженер - курам на смех («Вдовий пароход», 1979).
Расширяется круг социальных обязанностей женщины, она проявляет социальную активность в общественной жизни: староста , комсорг , профорг ... все они были бабы («Вдовий пароход», 1979). Вероятно, причина такой актуализации – демографическая, связанная с военными потерями мужского населения страны: Эх , девушки , бедные вы мои! Давно прошла война , выросло другое поколение , а все вас слишком много («Дамский мастер», 1963). Женщины вместо мужчин взяли на себя ответственность за страну. Традиционная женская жертвенность во имя мужа, детей, рабская преданность семье на этом этапе трансформируется в самоотверженную преданность любимому делу: и все-таки я работала , писала , вцепившись свободной рукой в волосы , курила , комкала бумагу , зачеркивала , снова писала . Когда я очнулась , было десять часов . У меня получилось ... ничто , ни любовь , ни материнство , - словом ничто на свете не дает такого счастья , как эти вот минуты («Дамский мастер», 1963).
Высокий профессионализм и умение работать обеспечивают повышение социального статуса, женщина становится руководителем : директором института информационных машин («Дамский мастер», 1963) или хозяйкой гостиницы . И. Грекова пристально «рассматривает» подчиненных, в роли которых часто оказываются слабые (в профессиональном и общечеловеческом смысле) мужчины.
Женщина-администратор живет на бегу: руководит научным подразделением (институтом, кафедрой), пишет доклады в Министерство и параллельно воспитывает детей. Такая тотальная занятость – причина возникновения синдрома рваного времени , рваного внимания – чтение урывками , в таком же режиме написание научных работ – между приемом посетителей и постоянными звонками и т. д. Но самый главный разрыв случается в личной жизни: такая женщина, как правило, одинока (не замужем или в разводе). Бытовые условия тоже несут на себе печать этого синдрома: холодильник – склеп , на столе типичное свинство («Дамский мастер», 1963).
Следствием дефицита времени и сверхзанятости становится не типичная для женщин внешность: пожилая , волосы полудлинные , неухоженные , бездарно седеющие , из себя полная , очки , английская книга в авоське , плащ довольно обшарпанный , чулки всегда забрызганы сзади («Дамский мастер», 1963). Женщины-интеллектуалки часто курят , что, по общему мнению, грубо и неженственно .
Только в одной повести – «Дамский мастер» (1963) – И. Грекова обращает внимание читателя на возможности трансформации признака ‘ внешний вид ’. В нем появляются новые слоты: вкус , чутье , стиль , ухоженность . Для поддержания женской красоты создаются специальные учреждения, в которых работают дамские мастера (парикмахеры), которые делают клиентам головы : бигуди , шестимесячную завивку , перманент («Дамский мастер», 1963). Постоянное посещение мастера становится показателем высокого статуса женщины. Героине И. Грековой привычка ухаживать за собой дается не просто: поначалу она даже не отождествляет себя с новым внешним видом: голову с прической я принесла на работу («Дамский мастер», 1963). Но «женщина» в конце концов в ней побеждает и позже на все важные встречи она ходит только со стильной головой («Дамский мастер», 1963).
Но стиль – лишь дополнительная «краска», главное в такой женщине – не пустая голова. Ее безусловным достоинством является ум, начитанность, широкий кругозор. И маленькие детали (умение безошибочно назвать классический инструментальный концерт Чайковского ; отдать в танцах предпочтение вальсу…) подчеркивают этот культурный контекст, носителем которого по праву становится женщина – не только хозяйка гостиницы, но и «хозяйка жизни».
Таким образом, проведенный филологический анализ текстов И. Грековой свидетельствует о том, что концепт ЖЕНЩИНА действительно является одним из ключевых в прозе писательницы, в которой актуализируются концептуальные признаки ‘ внешность ’, ‘ социальное положение ’ и ‘ внутренний мир ’ женщины. Как и в традиционной картине мира, в художественной интерпретации качества женщины «высвечиваются» на фоне взаимодействия и сопоставления с противоположным полом, потому что женщина – это прежде всего НЕ МУЖЧИНА: мужчина в доме , хозяин законный , женщины уже не ходили растрепами в затрапезном виде ; на этом безмужчинье выбирать не приходится …, можно было бы его перевоспитать , но у меня слабый , женственный характер («Вдовий пароход», 1979).
Художественный концепт ЖЕНЩИНА трансформируется во времени под давлением исторических обстоятельств, о которых повествует автор. Например, меняются идеалы женской красоты: хрупкая бледность уступает место полноте и свежести; мода на субтильность сменяется физической выносливостью, способностью выполнять тяжелую работу: устроилась разнорабочей в строительную контору , где ничего не строили , а пока разбирали развалины , добывали кирпич . Вера в брезентовой робе , в больших рукавицах , вся осыпанная розовой кирпичной пылью , работала усердно («Хозяйка гостиницы», 1975). Перемены затрагивают и внутренний мир женщин, который становится разнообразным и более «интеллектуальным»: девушки успешны в учебе, по своему рвению и стремлению к образованию не уступают парням: готовились к экзаменам , писали шпаргалки , зубрили сопромат и теормех , сдавали и пересдавали , делали доклады , пели в самодеятельном хоре («Вдовий пароход», 1979). Успехи в освоении специальности приводят к естественному изменению статуса женщины: она теперь не без основания претендует на руководящие должности.
Если в начале XX в. женщина больше соответствует традиционному типу (красавица ‒ высока, ровна, смугла без румянца, глаза бархатные, как камышовые свечи, а уж скромна – не ответит, не улыбнется, глаза в землю ‒ и мимо («Хозяйка гостиницы», 1975)), то к середине века она осмелилась перечить мужу, а после войны и вовсе, окончательно расправив крылья, проявила себя как личность в социальной и профессиональной сферах и даже заслужила право называться героем труда («Хозяйка гостиницы», 1975; «Вдовий пароход», 1979).
Неизменными остаются сугубо женские качества, как слоты-константы концептуального признака ‘ внутренний мир ’: 1) жертвенность во имя любви ‒ рабская материнская любовь ; двадцать семь лет с ним , при нем , для него ; 2) эмоциональность ‒ нервна , истерична ; 3) сварливость и неуживчивость с другими женщинами ‒ я не робкого десятка , но робею женщин ; они ссорятся , оскорбляют друг друга , срывают один на другом свою злобу («Вдовий пароход», 1979; «Хозяйка гостиницы», 1975).
Концепты МУЗЫКА , ВОЙНА , НАУКА в произведениях И. Грековой подчинены главному концепту – ЖЕНЩИНА . В самом общем виде эта связь заключается в следующем: война изменила характер и даже физиологию женщин (добавила ей маскулинных черт). Женщина, как натура более чувственная и утонченная, обладает природной музыкальностью: любовь к музыке, которую транслирует женщина, облагораживает социум. Природная интуиция и «приобретенный» интеллект уравнивают женщину с мужчиной в юридическом праве заниматься научной деятельностью и делать это блестяще.
Эти концепты не отменяют, а, напротив, служат концентрации признака, в котором заключено главное женское призвание ‒ рожать детей и заниматься их воспитанием, вести домашнее хозяйство, заботиться о близких, в котором им «нет равных». И. Грекова в своих произведениях представляет новый тип человека – « советскую женщину », которая соединила в себе лучшие мужские и женские качества: сильная, здоровая натура, самостоятельный и самодостаточный человек, заботливая мать, хорошая хозяйка. Единственная «слабость» такой женщины проходит «по ведомству» любовного чувства . Женщина на то и женщина, что всегда нуждается в настоящей любви: ее не отменяет война, не затмевает наука, не компенсирует музыка.
Список литературы Роль концептов война, наука, музыка в эволюции образа женщины в художественных произведениях И. Грековой
- Болотнова Н. С. О методике изучения ассоциативного поля художественного концепта//Вестн. Том. гос. ун-та. Серия: Гуманитарные науки (Филология). 2007. Т. 65, вып. 2. С. 74-79.
- Большой толковый словарь русского языка/Под ред. С. А. Кузнецова. СПб.: Норинт, 1998.
- Кардапольцева В. Н. Женские лики России: Моногр./Под ред. Л. А. Кирьякова. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2000. 160 с.
- Чибышева О. А. Концепт «Женщина» в русской и английской фразеологии: на материале предметных фразеологизмов, именующих женщину: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Омск, 2005. 24 с.
- Грекова И. Фазан//На испытаниях: Авт. сб. М.: Сов. писатель, 1990.
- Грекова И. Вдовий пароход//Такая жизнь. М.: Астрель, 2009. 381 с.
- Грекова И. Дамский мастер//Такая жизнь. М.: Астрель, 2009. 381 с.
- Грекова И. Хозяйка гостиницы. СПб: Амфора, 2012. 255 с.