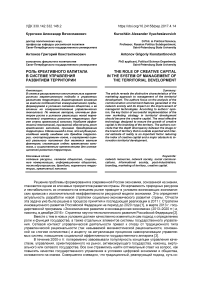Роль креативного капитала в системе управления развитием территории
Автор: Курочкин Александр Вячеславович, Антонов Григорий Константинович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются отличительные характеристики маркетингового подхода в управлении развитием территорий. Акцентировано внимание на анализе особенностей коммуникативной среды, формируемой в условиях сетевого общества, и ее влиянии на совершенствование управленческих технологий. По мнению авторов, ключевым фактором роста в условиях реализации новой маркетинговой стратегии развития территории должен стать креативный капитал. Наиболее эффективной технологией, призванной обеспечить рост креативного капитала, признано брендирование территории. Сделан вывод о том, что глубина расхождения между имиджем или брендом территории, «экспортируемым» вовне, и внутренней оценкой реального положения дел является важным фактором, снижающим индекс креативного капитала, и существенным препятствием для инновационного развития территории.
Сетевые ресурсы, сетевое общество, социальные коммуникации, информационное общество, постиндустриализм, брендинг, маркетинг территории, креативный капитал
Короткий адрес: https://sciup.org/14932113
IDR: 14932113 | УДК: 330.142:332.146.2 | DOI: 10.24158/pep.2017.4.14
Текст научной статьи Роль креативного капитала в системе управления развитием территории
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ
Решение проблемы формирования в современной России экономики, основанной на знании, становится одним из ключевых приоритетов развития страны. Исчерпаемость природных ресурсов и нестабильность их стоимости на внешнем рынке приводят в условиях возникающих экономических кризисов к исключительной неэффективности ресурсной модели экономики. Это определяет актуальность разработки новой стратегии социально-экономического развития страны. Отчасти эта задача уже была решена в процессе принятия и последующей реализации в 2011 г. Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года [1], в марте 2013 г. государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (2013–2020 гг.) и, наконец, в декабре 2016 г. Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации [2].
Вместе с тем в новых условиях должен качественно измениться сам подход к определению роли и функций государства, а также отдельных элементов системы государственного управления. Сетевой контекст управленческой деятельности привел к отказу от традиционного типа управленческой рациональности (так называемой механистической рациональности, основанной на «логике количества») и акценту на актуализации процессов самоорганизации управляемых систем, повышению социальной эффективности государственного аппарата [3].
В течение 2000-х гг. попеременно завоевывали популярность концепции управления качеством, управления, ориентированного на рынок, активизирующего государства, наконец, виртуального или сетевого государства. Все они стремились найти оптимальный ответ на вопрос, как повысить качество государственного управления в условиях цифровой экономики и общества, основанного на знании. Совершенно очевидно, что традиционный, реагирующий подход, суть ко- торого (по крайней мере в коммуникационном аспекте) можно свести к ответной реакции со стороны государства на запросы и проблемы, фиксируемые гражданами, должен быть заменен проактивным подходом, основанным на вовлечении граждан непосредственно в процесс принятия решений и постепенном формировании модели со-общественного управления.
В результате все больше укореняется представление о том, что современный публичный менеджмент – это управление сложными сетевыми образованиями, состоящими из множества акторов, и «менеджмент таких публичных сетей представляет собой форму внешнего руководства ( external steering ), которое имеет более сложную структуру, нежели административный контроль, и чаще всего определяется как «направленное влияние» [4, с. 30].
Таким образом, главная задача текущей административной реформы переопределяется как поиск наиболее эффективных (а значит учитывающих не только социально-экономическую специфику территории, ее географические и геополитические особенности, но и традиции, системы ценностей и неформальные институты) инструментов, методов и технологий вовлечения граждан в процессы управления. В этом смысле традиционная проблема масштаба участия государства в экономике и публичных делах, его соотношения с рынком и гражданским обществом теряет свою остроту, поскольку переопределяются сама роль государственного менеджмента, порядок и содержание его взаимодействия с негосударственными институтами. Отсюда ключевой общественный запрос на эффективное управление сегодня может быть сформулирован как поиск такой стратегии развития, которая оптимально способствовала бы обеспечению равновесия между стабильностью и продуцированием/управлением изменениями. И одна из основных проблем, встающих на пути формирования такой модели управления территорией, видится не столько в продуцировании и внедрении частных нововведений, сколько в изменении культурных моделей поведения, системы неформальных институтов и практик, распространенных в данном регионе.
Сегодня в большинстве субъектов РФ имеющийся экономический, человеческий и культурный потенциал не трансформируется в адекватный рост качества жизни населения. Отсюда очевидна потребность в формировании новых – маркетинговых стратегий развития территорий, общей задачей которых является ориентация на запросы клиента-гражданина, проживающего здесь. Но при этом важно четко понимать, что речь идет о переходе именно к современной маркетинговой концепции (получившей развитие в мире приблизительно с начала 1990-х гг.), отличительной характеристикой которой является ориентация на поиск оптимального баланса удовлетворения интересов всех участников процесса производства и потребления товаров и услуг, возможный только при условии активного взаимодействия всех акторов маркетинговой среды в рамках эффективной и открытой системы коммуникаций.
В новых условиях субъекты управления развитием территории вынуждены целенаправленно разрабатывать методы горизонтальной коммуникации и координации, направленные на взаимное согласование целей, задач и стратегий развития. В этом процессе могут быть выделены три основных уровня:
-
1) структурная интеграция (встраивание новых элементов в структуру организации или создание кооперативных структур),
-
2) процессная интеграция (согласование последовательности процессов и операций в соответствии с общей перспективой развития),
-
3) взаимная интеграция, или сотрудничество (обеспечение взаимопонимания и выработки разделяемого другими знания) [5, с. 84].
С позиций обеспечения открытого процесса территориального развития именно взаимная интеграция позволяет добиться наибольшей эффективности совместной деятельности, в то время как структурная интеграция направлена на редукцию неопределенности, а процессная – на устранение разногласий в коммуникационном процессе. Взаимная интеграция предполагает добровольное участие, общность целей и коллективную ответственность за полученный результат. Для ее успеха необходимо институциональное единство, достижимое за счет наличия общих правил игры для участников процесса планирования территориального развития и маркетинга территории, которое позволяет обеспечить взаимное согласие на более или менее длительный срок. Отсюда актуализируется вопрос создания и внедрения новых коммуникативных технологий.
Сложность и неравновесность развития современных социальных, политических и экономических систем требуют постоянных инноваций, совершенствующих инструментарий, технологии и содержательное наполнение коммуникаций. В свою очередь, инновационный потенциал развития территории определяется способностью государственного управления формировать, поддерживать и постоянно обновлять институциональную инфраструктуру производства и распространения нового знания, обеспечивать когнитивное согласие относительно целей, задач и методов государственной политики территориального развития [6].
По мнению авторов, ключевым фактором роста в условиях реализации маркетинговой стратегии развития территории и повышения ее инновационного потенциала должен стать «креативный капитал», формируемый системой институциональных, инфраструктурных, политикоадминистративных и культурных элементов.
Понятие «креативный капитал», несмотря на значительную распространенность в современной публицистической и научной литературе, остается недостаточно проясненным и по-прежнему многозначным. Истоки данного концепта традиционно относят к известной работе Р. Флориды «Креативный класс» [7], а также к труду Р. Кушинга «Креативный капитал, разнообразие и рост городов». Ричард Флорида в качестве определяющих детерминант креативного капитала называл такие условия, как технология, талант и толерантность, обобщив их в аббревиатуре «трех Т». Если первое и третье условия по сути являются инфраструктурой для роста креативного капитала, то талант (или креативность) становится определяющим, но в то же время наиболее сложно верифицируемым и измеряемым фактором. Р. Флорида определяет креативность как «когнитивную способность, не зависящую от других ментальных функций, которая подразумевает способность к обобщению…, требует уверенности в себе и способности пойти на риск… креативный этос подразумевает решительный отказ от конформистского этоса прошлого» [8, с. 17].
Вслед за историком экономических учений Дж. Молкиром Р. Флорида отмечает, что «технологическая креативность, как и креативность вообще, – это акт неповиновения, также определяемый как процесс разрушения гештальта с целью создания более подходящего гештальта» [9, с. 22]. Таким образом, Р. Флорида актуализирует протестный потенциал креативности, постулируя обязательный разрыв с традицией и рутиной, обеспечивающий продуцирование инноваций. Между тем креативный капитал не является центральным термином в его работе. Р. Флорида делает акцент на понятии «креативный класс» (главной отличительной чертой которого является то, что «его представители занимаются работой, основная цель которой – создавать значимые новые формы») и посредством последнего обращается к новой модели экономического развития – креативной экономике.
-
Р. Кушинг, идя схожим с Р. Флоридой путем, выделял креативный капитал из структуры социального капитала и считал его определяющим ресурсом для развития инновационных отраслей. В этом смысле он обращался к креативному капиталу как элементу человеческого капитала, базирующемуся на свободном развитии творческой инициативы и возможности продуцировать инновации. Но опять понятие креативного капитала остается у Р. Кушинга интуитивно определенным, но не проясненным с точки зрения перспективы его сравнительной оценки или прогноза динамики.
Более внятную попытку разобраться со структурными элементами креативного капитала предприняли российские специалисты, представители Центра стратегических разработок и фонда Calvert 22 в работе «Креативный капитал российских городов».
Они предложили дифференцировать следующие структурные элементы креативного капитала:
-
1. «Креативные люди», соотносимые с фактором таланта, выделенным Р. Флоридой. Этот элемент определяется социально-демографическими характеристиками креативного сообщества на конкретной территории, спецификой их взаимодействия с другими элементами креативного капитала.
-
2. «Креативная инфраструктура» (в оригинале «креативный город»), определяющая технологические, ресурсные, социокультурные возможности и ограничения развития креативных индустрий.
-
3. «Креативная власть», отражающая политические условия, обеспечивающие рост креативного капитала, в частности институциональную инфраструктуру и степень открытости власти к продуцированию инноваций и их внедрению.
-
4. «Креативный бизнес», обозначающий потенциал коммерциализации креативных разработок, их востребованность на рынке и в конечном счете возможность привлечения материальных ресурсов в данную сферу.
-
5. «Брендинг», сводимый к восприятию оцениваемой территории во внешней среде.
Такой подход к определению индекса креативного капитала предполагает адаптивный и динамический характер, учитывающий «изменения в предпочтениях различных групп креативных специалистов… и позволяющий сгладить возможные диспропорции в развитии отдельных регионов, которые могли бы исказить итоговый результат» [10, с. 10].
На наш взгляд, такая система оценки креативного капитала достаточно продуктивна, но требует определенной доработки. Обращает на себя внимание искусственная дифференциация элементов креативного капитала, на практике глубоко взаимопроникающих друг в друга. Это затрудняет процесс их оценки и конечного измерения итогового индекса, так до конца и не проясненного в цитируемой выше работе.
Более точно отражает реальное положение вещей модель, в рамках которой выделяются так называемые ядро, оболочка и окружающая среда (фон), формирующие креативный капитал [11]. Она, по мнению авторов, более полно соответствует реализации функции взаимной интеграции в процессе инновационного развития территории.
Возможный вариант модельной структуры креативного капитала представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура креативного капитала
Элемент «креативные люди» в данной модели заменен на «инноваторов и антрепренеров», что представляется более точным с позиций функций, выполняемых данными акторами. Введено понятие институтов, расположенных между креативной инфраструктурой и властью.
Особое внимание в рамках данной модели следует уделить «брендингу», являющемуся одновременно и результатом определенной конфигурации ядра креативного капитала, и элементом внешней среды (посредством экспорта бренда). Следует отметить, что ошибочно было бы ограничивать его роль исключительно функцией позиционирования территории вовне. Это, безусловно, важный момент, особенно с позиций инвестиционной привлекательности территории и, соответственно, возможностей привлечения к ее развитию внешних ресурсов. Однако не менее значимо и то, как воспринимают данную территорию внутренние акторы, являющиеся непосредственными создателями креативного капитала или обеспечивающие необходимые условия для этого процесса, т. е. «инноваторы и антрепренеры», «креативная власть» и т. д.
Ключевая задача эффективного маркетинга территории заключается в том, что не должно быть диссонанса или разрыва между имиджем или брендом территории, экспортируемым или формируемым вовне, и оценкой реального положения дел изнутри. Степень такого диссонанса во многом определяет снижение индекса креативного капитала и является существенным препятствием для инновационного развития территории. Она же препятствует формированию когнитивного согласия и взаимной интеграции акторов в процессе выработки и имплементации стратегии развития территории.
Ссылки:
-
1. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]. URL:
-
2. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://sntr-rf.ru/
(дата обращения: 24.03.2017).
-
3. Курочкин А.В. Инновационная политика в условиях сетевого общества (североевропейская модель). СПб., 2013. 132 с.
-
4. Еремеев С.Г., Курочкин А.В. Государственное управление и инновационная политика в условиях сетевого общества: новые принципы эффективности. СПб., 2014. 192 с.
-
5. Там же. С. 84.
-
6. Там же.
-
7. Florida R. The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. N. Y., 2002.
-
8. Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые создают будущее. М., 2016.
-
9. Там же. С. 22.
-
10. Креативный капитал российских городов. СПб., 2016.
-
11. Курочкин А.В., Шерстобитов А.С. Политика и государственное управление в условиях сетевого общества. СПб., 2012. 151 с.
(дата обращения: 24.03.2017).
Список литературы Роль креативного капитала в системе управления развитием территории
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года . URL: http://government.ru/docs/9282/(дата обращения: 24.03.2017).
- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации . URL: http://sntr-rf.ru/(дата обращения: 24.03.2017).
- Курочкин А.В. Инновационная политика в условиях сетевого общества (североевропейская модель). СПб., 2013. 132 с.
- Еремеев С.Г., Курочкин А.В. Государственное управление и инновационная политика в условиях сетевого общества: новые принципы эффективности. СПб., 2014. 192 с.
- Florida R. The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. N. Y., 2002.
- Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые создают будущее. М., 2016.
- Креативный капитал российских городов. СПб., 2016.
- Курочкин А.В., Шерстобитов А.С. Политика и государственное управление в условиях сетевого общества. СПб., 2012. 151 с.