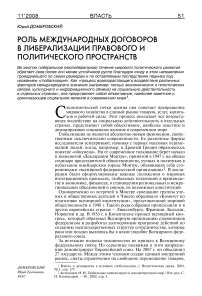Роль международных договоров в либерализации правового и политического пространств
Автор: Домбровский Юрий Евгеньевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и общество
Статья в выпуске: 11, 2008 года.
Бесплатный доступ
Во многом либеральное (неолиберальное) течение мирового политического развития обретает свое более или менее устойчивое русло благодаря сходу в этом направлении громаднейшего по своим размерам и по оставляемым последствиям ледника под названием «глобализация». Как «процесс всевозрастающего воздействия различных факторов международного значения (например: тесных экономических и политических связей, культурного и информационного обмена) на социальную действительность в отдельных странах», она представляет собой объективное, наиболее заметное и доминирующее социальное явление в современном мире1.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164303
IDR: 170164303
Текст обзорной статьи Роль международных договоров в либерализации правового и политического пространств
С экономической точки зрения она означает превращение мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Этот процесс оказывает все возрастающее воздействие на социальную действительность в отдельных странах, представляет собой объективное, наиболее заметное и доминирующее социальное явление в современном мире.
Глобализация не является абсолютно новым феноменом, свойственным исключительно современности. Ее различные формы исследователи усматривают, начиная с первых массовых перемещений людей, когда, например, в Древней Греции образовалось понятие «ойкумена». Но ее современное толкование берет начало в знаменитой «Декларации Монтре», принятой в 1947 г. на общем семинаре представителей общественности, ученых и политиков в небольшом швейцарском городе Монтре, объявивших себя сторонниками «всемирной федералистской организации»2. В декларации были сформулированы важные положения о мировых интеграционных процессах, глобальных тенденциях в производстве и экономике, финансах, о становлении региональных и межрегиональных объединений и союзов, их возможных конституций.
Одновременно со встречей в Монтре совещание группы ученых и общественных деятелей в Чикаго образовало «Комитет по подготовке всемирной конституции», представленной мировой общественности в 1948 г. Такого рода собрания происходили и в других европейских странах – Люксембурге, Франции, Бельгии, Норвегии и др. В 1953 г. в Копенгагене прошел всемирный конгресс, который образовал Всемирную организацию сторонников федерализма и разработал долгосрочную программу действий по созданию надгосударственных структур сотрудничества, которые рано или поздно вылились бы в некое подобие Всемирного федерального союза.
За истекшие полвека человечество не пришло к Всемирному федеральному союзу. Но серьезные подвижки в этом направлении демонстрирует Европейский союз. На 2007 г. он объединил 27 государств. Между этими членами создан единый внутренний рынок, сня ты ограничения на свободное перемещение товаров,
ДОМБРОВСКИЙ Юрий Евгеньевич, РАГС
капиталов, рабочей силы между странами, образована единая валютная система с единым руководящим денежно-кредитным учреждением, а также ведется работа по разработке единого правового про-странства1.
Единый рынок определяет и единые правила для его участников. Открытой экономике соответствует стратегия открытой политики, а им обеим – правовая модель, обеспечивающая гарантии их эффективной реализации. Одним из инструментов создания такой правовой модели выступают международные договоры и акты и их имплементация в национальное законодательство. Основополагающие принципы и нормы международного права сформулированы в таких документах, как Всеобщая декларация прав человека (1948), Международный пакт о гражданских и политических правах человека (1966), Международный пакт об экономических социальных и культурных правах (1966), Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950) и т.п. Их нарушение со стороны государства вызывает осуждение мирового сообщества и влечет за собой ряд экономических, политических и иных санкций.
Данные источники международного права, по сути, являются мерилом современной системы ценностей международного сообщества, некоей путеводной звездой, направляющей развивающиеся страны на путь либеральных и демократических преобразований внутригосударственных правовых и политических пространств. Принимая и ратифицируя подобные источники международного права в своем правовом пространстве, развивающиеся страны определяют вектор своего дальнейшего развития, тем самым становясь частью новой, глобальной, либеральной системы ценностей мирового сообщества2.
Международное право, основным источником которого является международный договор, в условиях глобального и экономически взаимозависимого мира выступает совершенно в ином качестве. Международный договор, изначально созданный как акт волеизъявления государств, упорядочивающий их взаимоот- ношения в тех или иных вопросах межгосударственного взаимодействия, в настоящий момент выступает с более широким кругом функций. Помимо своей первоначальной функции, он стал во многом определять направление развития этих отношений, внедряя во внутригосударственное правовое пространство либеральные принципы и нормы, без принятия которых государство не признается мировым сообществом как адекватное.
У участников международных отношений имеется всего три вида средств воздействия друг на друга: сила, убеждение и обмен. Возникает вопрос о том, к какому виду средств можно отнести международный договор. Если до глобализации мы рассматривали договорные отношения как проявление политики убеждения, то сейчас все чаще они выступают в виде своеобразной силы – силы права. Именно с позиций силы права наиболее глобализированные государства диктуют новые правила на международной арене, в экономической области (например, правила ГАТТ/ВТО), в области социальной (в частности, помощь беднейшим странам) и в области обороны (распространение НПРО США в страны Центральной и Восточной Европы).
Таким образом, право стало если не определять, то ограничивать экономические интересы государства. И мерилом правильности поведения государства отныне является не само государство, а новый, еще не полностью сформулированный с точки зрения права, субъект международных отношений – «международное сообщество», интересы которого представляют такие международные или региональные организации, как Организация Объединенных Наций (ООН), Всемирная торговая организация (ВТО), Европейский союз (ЕС) и др.
Государства, наделяя полномочиями субъекта международного права международные организации, создали некую третью силу, которая начинает определять правила поведения на международной арене, при этом руководствуясь не властными полномочиями, а экономическими, политическими и иными выгодами, которые получает государство при вступлении в ту или иную международную организацию, предварительно исполнив предъявленные требования и подписав ряд соглашений, как правило направлен- ных на либерализацию экономического, правового, политического и других внутригосударственных пространств.
Так, вступление в ЕС является очень важным и выгодным шагом для многих стран, расположенных на европейской части Евразийского континента. Но этот шаг обусловлен процедурой принятия ряда международных договоров, таких как: Европейская конвенция о защите прав и основных свобод (Рим, 1950); Договор об учреждении европейского экономического сообщества (Рим, 1957), Договор о Европейском союзе (Маастрихт, 1992), Хартия основных прав Европейского союза (Ницца, 2000) и др. подобных соглашений, целью которых, в большей степени, является либерализация правового и политического пространств государства, принявшего данный договор. Ратифицировав данные соглашения, государства самостоятельно ограничивают свою власть и признают власть определенных наднациональных структур по юридической силе более высокой, чем свою собственную. Европейский опыт говорит о возможности либерализации правового пространства страны путем принятия ряда международных договоров. Это становится условием существования государства в условиях глобализации.
Глобализация предоставляет возможность экономически более сильным акторам воздействовать на государства с менее развитой экономикой. И коль скоро в современном мире экономически превалирует Запад, современная картина мирового порядка включает в себя тенденцию либерализации правового пространства государств. В определении вектора такой либерализации Запад, и в частности Соединенные Штаты Америки, продолжают играть ведущую роль.
Согласно свойственному им неолиберальному подходу, государства рассматриваются как главные, но далеко не единственные участники на международной арене. Они обладают своим, однако изрядно ограниченным международными конвенциями и договорами суверенитетом. Совместно с ними на всемирной арене действуют межправительственные и неправительственные международные организации, каждая из которых создана для осуществления определенных целей и, как правило, в той или иной степени ограничивает государственную власть.
Либерализация, то есть процесс внедрения во внутригосударственные пространства либеральных принципов и норм, и идущая с ней в ногу демократизация не всегда направлены на общества, которые готовы принять новую систему жизненных ценностей и жить адекватно ей. Зачастую они направлены на общества, которые совершенно не готовы к таким изменениям, в которых люди не способны брать моральную ответственность за решения, от которых зависит не только их собственная жизнь, но и жизнь государства в целом1. Следовательно, примат наднациональных интересов над национальными порождает немало проблем и противоречий.
В настоящий момент существует ряд международных актов, без принятия которых существование того или иного государства рассматривается как не адекватное современным политическим реалиям. И государства зачастую вынужденно принимают их, отдавая при этом себе отчет в том, что их правовое пространство не способно выдержать требования, налагаемые в соответствии с такими актами. Но если государство при вопросе принятия им в свое внутреннее правовое пространство тех или иных либеральных принципов и норм руководствуется не реальной возможностью претворения их в жизнь, а экономической целесообразностью – зависимостью, можно ли говорить о какой-либо свободе в осуществлении такого выбора?
Роль международного договора как средства либерализации правового и политического пространств возрастает и по мере расширения числа суверенных государств, и по мере увеличения количества негосударственных участников международных отношений. На смену биполярному миру идет совершенно иная политика, направленная на упрочение международных демократических институтов. Такая политика предполагает принятие всеми акторами общих глобальных ценностей и безусловное их соблюдение. А как возможно обеспечить исполнение этих ценностей государствами, каждое из которых обладает таким понятием, как «суверенитет», и явно не собирается ограничивать себя в правах?
Поэтому мы наблюдаем сохранение биполярности в оценках либеральнодемократической формы правления. На самом деле она обладает реальными преимуществами, которые позволяют назвать ее доминирующей среди известных человечеству форм организации общества. Либеральная демократия предполагает не просто власть большинства, а правовое государство на основе представительной демократии, в котором воля большинства и способность избранных представителей осуществлять власть ограничены во имя защиты прав и интересов различных меньшинств: политических, национальных, этнических, социальных, культурных, а также прав, свобод и интересов каждой отдельной личности. Причем права и свободы отдельной личности имеют приоритет над правами и интересами групп (классов, национальностей, меньшинств и т.д.), к которым принадлежит или не принадлежит данная личность, и над текущими интересами общества и государства в целом.
Общее направление на развитие демократических принципов и норм в своем государстве является абсолютно нормальным для большинства обществ, даже таких, которые еще недавно отвергали либеральные вливания в свое правовое пространство. Процесс усиления взаимозависимости развития, запущенный Западом, стал воистину повсеместным и общечеловеческим. Сложившись из политико-экономического интереса нескольких стран, он превратился в явление всеобъемлющего характера, которое существует и развивается по своим законам. Абсолютный контроль над ним невозможен даже для таких экономически сильных государств, как США или содружество государств – ЕС.
Еще одним важным аспектом либерализации политического и правового пространств является укрепление международного мира. В свое время И. Кант указывал, что этому служит утверждение в каждом государстве республиканского строя. А американский исследователь Брюс Рассеет в работе «Демократия, экономическая взаимозависимость и международные организации в создании зоны мира» расширил концепцию Канта, утвердив три ключевых принципа мирного мирового порядка1. Первый принцип – это демократия, а точнее, демократизация, поскольку она ставит на первый план человеческое достоинство. Кроме того, имеются неоспоримые доказательства того, что демократии не воюют друг с другом, они располагают иными, мирными способами разрешения конфликтов. Второй принцип – «свободный рынок», утверждающий экономическую взаимозависимость государств, которая является своеобразным гарантом мира. Третий принцип – международное право и международные организации, которые играют большую роль в процессе демократизации и либерализации политического, экономического и правового пространств, а также в процессе создания и укрепления мира.
***
В начале XXI в. мир как будто остановился на пороге новой системы международных отношений. И можно заметить, что история всех ее предшественниц доказывает следование государств, включенных в эти системы, одним и тем же принципам международного взаимодействия, одним и тем же их теоретическим обоснованиям, на которых выстраивалась соответствующая международная договорная база. Это делает хронологические границы систем международных отношений весьма условными. Те международные договоры, которые фиксировали переход, отражали контуры новых государственных границ, закрепляя военные приобретения и потери, устанавливали правила действия новых международных институтов, которые должны следить за нерушимостью этих контуров.
Отсюда становится очевидной низкая результативность научных и публицистических поисков дефиниции миропорядка, существующего после крушения СССР и системы социализма. Она так и будет оставаться «системой после холодной войны» до тех пор, пока не вызреют принципиально новые характеристики международ ного взаимодействия.