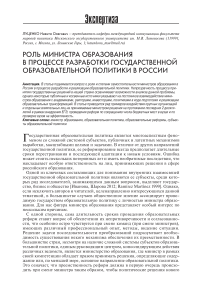Роль министра образования в процессе разработки государственной образовательной политики в России
Автор: Луценко Никита Олегович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 9, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимается вопрос о роли и степени самостоятельности министров образования в России в процессе разработки и реализации образовательной политики. Непрозрачность процесса принятия государственных решений в нашей стране ограничивает возможности анализа данной проблемы, однако некоторые публичные и косвенные источники указывают на постоянное взаимодействие министров образования с академиками, ректорами, инвесторами, политиками в ходе подготовки и реализации образовательных трансформаций. В статье приводится ряд примеров воздействия крупных организаций и отдельных влиятельных лиц на принимаемые министром решения на протяжении последних 2 десятилетий в рамках внедрения ЕГЭ, проведения реформ по сокращению числа бюджетных мест в вузах и по проверке вузов на эффективность.
Министр образования, образовательная политика, образовательные реформы, субъекты образовательной политики
Короткий адрес: https://sciup.org/170168926
IDR: 170168926
Текст научной статьи Роль министра образования в процессе разработки государственной образовательной политики в России
Г осударственная образовательная политика является многоаспектным феноменом со сложной системой субъектов, публичных и латентных механизмов выработки, масштабными целями и задачами. В отличие от других направлений государственной политики, ее реформирование всегда предполагает длительные сроки перестраивания и последующей адаптации к новым условиям. Ошибка может стоить нескольких потерянных лет и иметь необратимые последствия, что накладывает особую ответственность на лиц, принимающих решения в сфере российского образования.
Одной из ключевых составляющих для понимания внутренних взаимосвязей государственной образовательной политики являются ее субъекты, среди которых ряд исследователей, занимающихся данным вопросом, выделяют государство, бизнес и общество [Иванова, Шарова 2012; Ramírez Martínez 1999]. Однако, если исключить авторов и читателей, целенаправленно интересующихся данной тематикой, в большинстве случаев общественное мнение ассоциирует проводимую государством образовательную политику с личностью министра образования. Для нас фигура министра образования представляет особый интерес по нескольким причинам.
С одной стороны, сама длительность сроков проведения образовательных реформ ставит вопрос об обеспечении их непротиворечивости и согласованности, что особенно остро чувствуется при смене команд (при смене министров), имеющих различный профессиональный опыт, методы, видение ситуации. Решение задачи последовательности преобразований подразумевает необходимость существования некого механизма обеспечения их преемственности. В большинстве стран, несмотря на наличие сложной системы субъектов образовательной политики, единым руководящим центром, консолидирующим действия различных ведомств, является министерство образования, где министр в рамках своей компетенции обладает правом принимать решения, определяющие содержание или, по меньшей мере, основное направление образовательной политики. Это означает, что преемственность реформ должна в первую очередь происходить при смене министра таким образом, чтобы политические решения нового министра не вступали в противоречие с трансформациями, которые были начаты или проведены его предшественником и к которым система образования все еще продолжает адаптироваться. Одним из механизмов обеспечения преемственности образовательной политики во многих странах является наличие специальных стратегических планов и программ развития образовательной системы, принимаемых государством на несколько лет (иногда десятилетий) вперед.
С другой стороны, вступая в должность, новый министр попадает в окружение людей, находящихся на ключевых позициях в государственных органах и в образовательных учреждениях, – академиков, ректоров, инвесторов, политиков, которые в рекомендательном порядке вносят свои коррективы в разрабатываемые министерством программы и цели, а также свои предложения, обсуждая их с министром образования лично. Данные субъекты составляют некую среду, в которую попадает министр, что по своей сути сопоставимо с бюрократической средой, в которую попадает победивший на очередных выборах политик. В силу обретенного опыта, профессиональной подготовки и долговременности пребывания на своем месте представители данной неформальной группы нередко обладают большей компетенцией в решении ряда вопросов [Пушкарева 2010: 22-23], однако взаимодействие с ними часто носит непубличный характер.
В связи с этим возникает вопрос, является ли министр образования субъектом образовательной политики, имеющим возможность независимо принимать решения, или же сменяемой публичной фигурой, являющейся проводником чужих идей?
К сожалению, непрозрачность принятия большинства решений в сфере образования не позволяет однозначно ответить на данный вопрос, однако ряд действий министров в ходе реализации реформ последних 2 десятилетий дают возможность сделать некоторые выводы.
Среди наиболее значимых образовательных реформ можно выделить введение ЕГЭ, начатое В.М. Филлиповым и продолженное А.А. Фурсенко, переход на нормативно-подушевое финансирование учебных заведений, исходя из числа учащихся, и присоединение к Болонской системе с обязательным переходом на систему 6-летнего двухстадийного обучения «бакалавр – магистр», проведенных в годы пребывания на должности министра А.А. Фурсенко. Затем последовали проверка вузов на эффективность и сокращение бюджетных мест в вузах, проведенные министром Д.В. Ливановым. Обзор сохранившихся статей, соответствующих времени проведения каждой из реформ, позволяет заметить, что многие из них связаны с именами проводивших их министров образования и носят критический или негативный характер1.
Несмотря на работу СМИ по персонификации российской образовательной политики, существующие открытые источники позволяют косвенно проследить влияние на принятие решений министрами образования некоторых крупных организаций и отдельных личностей, имеющих вес в образовательной сфере на протяжении проводимых в последние 20 лет преобразований. В качестве примера подобного воздействия можно привести предложение по мониторингу вузов – одной из самых резонансных и значимых реформ последних лет. Инициатива по мониторингу качества образования российских вузов изначально была выдвинута и подробно рассмотрена на совещании ректоров ведущих университетов (согласно официальным данным, представленным на сайте Министерства образования и науки РФ)1 в июле 2012 г. Совещание было проведено экстренно и без предварительного оповещения. Министр образования и науки Д.В. Ливанов был уведомлен о принятых в результате совещания предложениях по проведению мониторинга вузов уже после окончания встречи, вследствие чего проверка учебных заведений была включена в план преобразований.
Среди прочих организаций существенное влияние на образовательную политику последних десятилетий в России оказала Высшая школа экономики, которая выступила разработчиком и инициатором многих трансформаций в системе образования. В качестве примеров можно привести ЕГЭ, одним из авторов и инициаторов которого является ректор ВШЭ Я.И. Кузьминов2; другой пример участия НИУ ВШЭ в образовательной политике – представленный министру образования А.А. Фурсенко в 2011 г. рейтинг качества вузов (данный мониторинг ежегодно проводят с 2009 г. ВШЭ совместно с РИА «Новости» по заказу Общественной палаты РФ), составленный на основе среднего проходного балла ЕГЭ, который потребовался абитуриентам для поступления. Согласно данному рейтингу, в ряде высших учебных заведений на бюджетные места были зачислены абитуриенты с недостаточно высокими показателями3. По результатам рейтинга была осуществлена реформа по сокращению бюджетных мест в ряде вузов4. Методология мониторинга качества образования российских вузов для реформы 2012 г. также была разработана Минобрнауки России совместно с экспертами из ВШЭ5.
Это лишь некоторые из многих случаев влияния отдельных людей и организаций на принимаемые министрами образования решения. Следует отметить, что в российской истории государственной политики существует немало примеров того, как при снижении рейтингов представители власти приостанавливали реформирование или выдерживали паузу, однако, несмотря на негативную реакцию общественности, все перечисленные реформы в сфере образования были доведены до конца, даже в условиях постоянной критики, что приводит нас к выводу о наличии интересов, стоящих выше, чем рейтинги и репутация министров образования. Являются ли данные интересы государственными или отражением запросов наиболее влиятельных организаций в сфере образования – вопрос для отдельного исследования.
Список литературы Роль министра образования в процессе разработки государственной образовательной политики в России
- Иванова И.Н., Шарова О.Л. 2012. Особенности реализации социальной политики в сфере образования. -Современные проблемы науки и образования. № 2. С. 3-4
- Пушкарева Г.В. 2010. Государственная служба в системе механизмов формирования государственной политики. -Вестник Московского университета. № 3. С. 21-38
- Ramírez Martínez R.M. 1999. Política educativa: los sujetos y sus discursos. -Tiempo de educar № 1