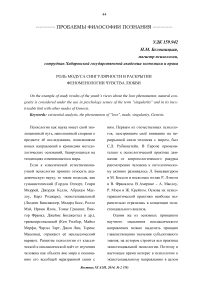Роль модуса сингулярности в раскрытии феноменологии чувства любви
Автор: Белошицкая Н.М.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы философии познания
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
На примере изучения результатов взглядов молодежи о феномене любви естественная конгруэнтность рассматривается под воздействием психологических чувств термина «сингулярность» и в ее неразрывной связи с другими способами Бытия.
Короткий адрес: https://sciup.org/14319830
IDR: 14319830
Текст научной статьи Роль модуса сингулярности в раскрытии феноменологии чувства любви
Психология как наука имеет свой эволюционный путь, наполненный спорами о предмете её исследования, появлениями новых направлений и кризисами методологических оснований, базирующихся на тенденциях изменяющегося мира.
Если к классической естественнонаучной психологии принято относить академическую науку, то такие подходы, как гуманистический (Гордон Олпорт, Генри Мюррей, Джордж Келли, Абрахам Маслоу, Карл Роджерс), экзистенциальный (Людвиг Бинсвангер, Медард Босс, Ролло Мэй, Ирвин Ялом, Томас Грининг, Виктор Франкл, Джеймс Бюджентал и др.), трансперсональный (Кен Уилбер, Майкл Мерфи, Чарльз Тарт, Джон Лии, Торенс Макенна), отражают её неклассический вариант. Развитие психологии от классической к неклассической идёт от изучения человека как объекта вне мира к пониманию его всеобщей неразрывной связи с ним. Первым из отечественных психологов, заострившим своё внимание на неразрывной связи человека с миром, был C.Л. Рубинштейн. В Европе применительно к психологической практике движение от антропологического ракурса рассмотрения человека к онтологическому активно развивалось Л. Бинсвангером и М. Боссом и несколько позже Р. Лэнгом и В. Франклом. В Америке – А. Маслоу, Р. Мэем и Ж. Крейгом. Основа их психотерапевтической практики наиболее выразительно отразилась в концепции экзистенциального анализа.
Одним же из основных принципов научного мышления неклассического направления можно выделить принцип главенствования значения субъективного знания, на котором строится вся практика экзистенциальной психологии. Поэтому в настоящее время интерес в психологии к экзистенциальному направлению в целом и к экзистенциальному анализу в частности продолжает расти.
Обращение к феномену «любовь» является сегодня потребностью времени как идея сохранения личностной идентичности и целостности человека, что делает необходимым вывести на первый план науки сущностные представления о любви, её влияние на сформированность психической реальности человека, а также теоретически обосновать возможности проявлений чувства любви как мощного ресурса наполненности его жизни. В настоящей статье мы рассмотрим целесообразность использования термина «сингулярность» относительно феноменологии проявления любви и его неразрывную связь с другими модусами данного чувства.
В своём исследовании В.В. Летуновский отмечает, что в феноменологической психологии Гуссерля понятие «Я» занимало одно из центральных мест и имело три значения: эмпирическое «Я», трансцендентальное «Я» и «Я» Жизненного Мира. Последний «не просто первичен в генетическом смысле», а обладает «высшей значимостью по сравнению с ценностью объективно-логических очевидностей» и является для всех «сферой известного всем непосредственно очевидного», первичным по отношению ко всему возможному познанию и опыту [1, с. 14]. В свою очередь Л. Бинсвангер в интерпретации внутреннего мира человека старается выйти на содержащиеся в нём изначальные структуры, которые именует трансцендентальной структурой «экзистенциального априори», являющейся условием существования всех психических структур человека.
Первичность ряда константных явлений, таких как феномен «любовь», определяет их вневременную сущность через их модальность, которая позволяет осуществлять более глубокий и тонкий анализ особенностей и законов человеческой жизни.
Выделяя три модуса человеческого бытия (сингулярность, дуальность, плю-ральность), Л. Бинсвангер утверждает полноту жизни человека через полноценное его присутствие во всех трёх модусах, но вместе с тем отдаёт чувству любви только две последние позиции. Тем самым, на наш взгляд, лишает её изначальной точки происхождения как фундаментальной составляющей любого явления.
Сингулярность (от лат. singularis – единственный, особенный) в философии определяется как единичность существа, события или явления, как попытка разрешения некоторых противоречий, рождающихся в результате прояснения сущности отношения единичного и множественного, абстрактного и конкретного. Наиболее полную и оригинальную трактовку это понятие получает в философии Ж. Делёза. Согласно его теории, сингулярность позволяет прояснить способ существования множественности и той единичности, которая сущностно находится раньше абстрактного единства или Единого. Сингулярность - это событие, имеющее смысл, или, другими словами, сам смысл. Само событие, с одной стороны, носит точечный характер, с другой стороны, поскольку оно связано с другими со- бытиями, его необходимо рассматривать как носящее континуальный характер, что на поверхности мира фиксируется как невозможность для события существовать изолированно от других событий. Смысл события остаётся характеризующимся понятием точки, однако точка носит про-лиферированный характер. Подобная пролиферированная точка может быть понята как серия. Любой смысл, любое событие, имеющее свой смысл, может быть переинтерпретировано в пределах этой пролиферированной точки, которая предстаёт как серия или как линия, исчерпывающая все варианты модификации этой точки. В пределе возможности для такой модификации бесконечны, и точка события тогда совпадает со всем миром.
Сингулярность – это нулевое измерение, точка непрерывного уточнения, в своём развёртывании рождающая мир . Сингулярность, как отмечает Ж. Делёз, независима от своих актуализаций. Актуализация всегда вызвана ею самой. Она создаёт совозможность событий или события. Сериация события – это различные события, собранные в виде «взглядов» на одно событие, по сути, в виде их совоз-можности. Но сингулярность оказывается всегда первичнее своей сериации уже хотя бы потому, что всегда существует только одна сингулярность и все другие можно представить как линии её сериации.
Всегда существует некоторое собирание, складывание многих точек в одну, которое приводит, с одной стороны, к созданию индивидуального или конкретного, а с другой – к созданию Единого [2].
В анализе развития человека психологи привыкли опираться на представления А. Маслоу. Витальные потребности, находящиеся в основе его пирамиды, считаются базисом. Чувственной сфере отводится серединное местоположение. Но если мы помещаем чувство любви в уже привычные рамки, то лишаемся возможности понять его сущность и, возможно, логику существования в целом.
Проведённые нами исследования представлений молодых людей возраста 17 – 20 лет о феномене любви показали, что чувство любви является более глубинной точкой основ человеческого Бытия, нежели инстинкты и витальные потребности.
Молодые люди считают любовь началом их жизни и жизни в целом. На первое место в их рассуждениях выходят фундаментальные свойства любви. В их представлениях любовь:
– всеохватна в своих значениях: «любовь – одна: материнская, отцовская, одноклассников, братьев, сестёр, друзей и даже незнакомых людей. Чувство одно, а мысли разные», «но, скажете вы, любить родителей – это одно, а любить свою собаку – это другое. Нет, мы либо любим, либо нет», «всех нас объединяет любовь», «любовь – это Суть Мира, за счёт которой он существует и которой одновременно и является. Любовь – это синоним Бога, Вселенной»;
– вне времени: «настоящая любовь длится всю жизнь»; «рано или поздно, но конец приходит всему, но только любовь остаётся в нас пожизненно»; «настоящая любовь не проходит»; «у любви нет срока годности, люди сами его себе представляют»; «любовь по-настоящему ценное чувство вне времени»; «на любовь нельзя накладывать временные рамки! Она - вечна!»;
-
- изменяет само время: «любовь - это изменение течения времени»;
-
- обладает категорией «вечность»: «для меня это вечное чувство»; «любовь будет жить вечно»; «любовь всегда была, есть и будет»; «настоящая любовь - она вечна, даже если люди расстались, она живёт в воспоминаниях»; «любовь живёт вечно, и этому есть подтверждение»; «если любовь настоящая, то ни время, ни жизненные трудности не смогут её «погасить»»; «если человек разлюбил, значит, скорее всего, он не любил. Разлюбить невозможно»;
-
- вне пространства: «у любви нет предела»; «настоящая любовь не имеет границ»; «для неё не преграда расстояние, время, возраст, расставания»;
-
- имеет свою эволюцию: «это чувство, которое проверено временем»; «любовь – это, пожалуй, самое полное выражение тех чувств, которые развились в человеке за всё его существование»; «чувство любви как бы сгусток всех идеалов, всех достижений человечества»; «любовь постоянно развивается, меняя свою силу, направленность, формы существования».
Время и пространство играют в представлениях молодых людей главные роли в определении подлинности чувства. Именно эти категории в любви можно рассматривать как константные. С одной стороны, линейность времени, где прошлое, настоящее и будущее идут в заданном человечеством направлении от одного к другому и любовь эволюционирует, приобретая множество иных, новых смыслов. С другой стороны, время превращается в пространственную сферу, где прошлое, настоящее и будущее сосуществуют в едином пространстве возможностей каждого человека и тогда любовь обретает то единство во времени, о котором пишут молодые люди. Фактически частота использования слова «вечность» в качестве синонима любви подтверждает тот факт, что именно эта категория является в сознании молодёжи доминирующей, неизменной характеристикой данного чувства как «настоящего»: «любовь бессмертна, а если чувства «ушли», пусть даже через 20 - 30 лет совместной жизни, то, по моему мнению, любви, как таковой, и не было» или «ложного»: «люди часто именуют любовью иные понятия».
Первоначально в текстах появляется тождественность понятий «человек», «любовь», «норма»: «без любви человек может достичь богатства, быть здоровым физически, стать популярным, но он не сможет стать нормальным»; «возможно, именно это чувство делает нас людьми»; «без любви человек теряет человечность»; «а что если бы не было Любви? Страшно представить. Человек потерял бы себя»; «любовь - это нормальное состояние человека», поскольку «любить – значит быть живым в самом точном смысле этого слова. Только в состоянии любви возможна встреча с внутренним существованием мира». «Мир» в значении Вселенной или «мир» человека как понятие «встреча» в экзистенциальной психологии имеет значение начала диалога с собой. И это тот смысл сингулярности, который «сущностно находится раньше абстрактного единства» и в дальнейшем предстанет в множестве вариантов модификации данного явления.
Одним из главных свойств любви для молодых людей становится оправдание всеобщего Бытия и частной жизни человека через смысл, привносимый в неё любовью: «это чувство, заставляющее нас жить в полном смысле этого слова»; «почувствовать в душе любовь – это единственная возможность почувствовать жизнь»; «это наполняет твою жизнь смыслом»; «представить природу жизни без любви невозможно. Без неё не было того мира, в котором мы живём. Она – смысл жизни» и др. Любовь становится той точкой опоры, которая «помогает найти своё место в мире» через индивидуальность чувствования: «для каждого человека это что-то своё»; «каждый думает о своём, у каждого своя история любви и она не может повториться – она уникальна!»; «я считаю, что у каждого человека любовь своя, и каждый вкладывает в это свой особый смысл».
Представления молодых людей находятся на пересечении «внешнего» (любовь как общая основа, энергия всей жизни мира, как смысл жизни вообще) и «внутреннего» (любовь, как сама жизнь и её смысл в жизни самих респондентов) пространств Бытия, определяющего норму человечности в человеке. В текстах эссе ясно проступают трансцендентные и экзистенциальные мотивы представлений о всеобщем человеческом мироустрой- стве, где в свою очередь явными становятся существующие в любви противоречия, та двойственность, что выражена через модус дуальности и которую респонденты констатируют как данность.
Девушки пишут о «полнейшем ограничении свободы, с одной стороны, и возможности быть абсолютно счастливым и свободным – с другой», о том, что любовь «сумасшедшая, дикая или тихая и спокойная», «это и радость, и мука одновременно», «это бешеное чувство восторга и восхищения вперемешку со страхом», «это настолько сильные эмоции, которые могут убить тебя изнутри и в то же время подарить высшее счастье», «любовь способна поднять нас до небес, ранить и скинуть с небес на землю», «она как бы расколота на зияющие противоречия, полные бесконечных тайн и загадок», но «я научилась ценить мгновения – радостные и грустные. Если они есть, значит, есть и я: я живу, вижу, слышу, люблю». Юноши определяют любовь как «недостижимое, невообразимо приятное или саморазрушающее чувство», «с одной стороны, она рассматривается как нечто идеальное, райское, блаженное, с другой – она олицетворяет собой скрытого демона, коварного искусителя, который вносит в нашу жизнь своеобразную иррациональность». Но в отличие от девушек юноши видят в противоречиях любви саму «природу» и задачу жизни человека: «поэтому наша задача состоит в постоянном познании самого себя, открытии своего идеала, и в нахождении своего особого понимания любви, и этот идеал можно постичь только при помощи другого человека». Появление Другого в текстах во всех случаях, независимо от пола респондентов, имеет характер самопознания себя через отношения любви. В их интерпретации Другой – это «любимый родной человек» независимо от пола: «самое главное в жизни человека – это полюбить другого»; «главное – не потерять того человека, для которого ты становишься целым миром, Вселенной»; «когда не можешь жить без дорогого человека, без близких и родных людей»; «Другой – абсолютная ценность в любви», так как «любовь в её устремлённости не просто на существо иного пола, а на личность с её уникальностью». Отсутствие любовных отношений в жизни практически уничтожает чувство значимости Другого, доводя его до уровня заменяемой «частички»: «я могу ошибаться, так как это чувство мне незнакомо, скорее я рада по этому поводу, чем огорчена. Таких «частичек» по городу ходит много, просто надо встретить и привыкнуть к ним». В данном случае весь диапазон мира сужается до прагматизма, ставшего следствием отсутствия в жизни респондента экзистенциальных переживаний. Но понимание того, что побег от любви превращает человека в лишенца, а её принятие наделяет знанием вершинного, трансцендентного уровня, к которому должен стремиться человек, рождает следующее утверждение: «Влюблённый человек словно возрождается, начинает любить и ценить жизнь… стремиться выше и выше. Нелюбящий человек никогда не достиг- нет того, чего достиг человек, который был хоть раз влюблён, он так и останется «внизу», не увидит ничего красивого. Любовь – мощный двигательный аппарат, который толкает нас к регрессу или прогрессу».
От понимания «абсолютной ценности» другого человека исходит их утверждение способности любви к всеобщему единению человечества («это чувство, которое объединяет людей») и единению в паре: «появляется «мы»; «любовь между мужчиной и женщиной – это когда два человека находят друг друга из тысячи и дополняют друг друга»; «ты настолько погружён в этого человека, что весь мир уже ничто по сравнению с ним»; «главное, что есть вы»; «этот человек (ваш любимый), есть что-то большее, чем просто вторая половинка, он есть жизнь»; «индивидуальности дополняют друг друга, образуя нечто целое»; «это чувства, которые сплелись воедино»; «в любви мужчины и женщины любовь – единое целое».
В единстве противоположностей людьми преодолеваются любовные противоречия и реализуется множественность личностных смыслов, образующихся и реализующихся в едином индивидуальном мире двух личностей (абстрактном Единстве): «когда ты смотришь в его глаза, то видишь целый мир»; « вы создаёте свой собственный мир , который не понять никому, кроме вас».
Отдельно в ряду определений любви стоит утверждение респондентов об элементарности её зарождения через биохимические процессы в организме человека:
«гормональный всплеск», «это совокупность химических процессов», «выброс гормонов в кровь и только сам человек, каждый по-своему, преображает её так, как ему хочется», «любовь - это биохимическая реакция на шаблон нашего «идеала»». Последнее утверждение нельзя рассматривать как стереотип или шаблон, поскольку оно в большей степени напоминает проявление символической сути архетипической предрасположенности человека к «узнаванию» идеального партнёра. Слово «идеал» в случае любви не предполагает наличие в человеке недостатков, как утверждают респонденты («любить означает не видеть недостатков»; «когда твои недостатки не критикуют, а принимают вместе с тобой»), а скорее принятие «Другого» со всеми его противоречиями, особенностями, сложностями характера, физическим несовершенством посредством того, что в экзистенциальной психологии названо внутренним резонансом: «это невидимая сила»; «происходит что-то необъяснимое где-то внутри»; «это когда смотришь на человека и понимаешь, что именно с ним тебе хочется быть до конца своих дней». Именно он является первой точкой, которая даёт возможность осуществления Встречи двух людей, их «узнавания» друг друга («её не узнаешь, если не встретишь»; «когда вы понимаете, что этот человек ваш»; «когда ты чувствуешь, что человек твой»); вступление в Отношения и внутреннего ощущения их ценности («главное, что вы есть») через их развитие («это бесконечная работа над собой и от- ношениями»; «это тяга к совершенной жизни»). Именно эксклюзивность возникновения в душах двух людей резонанса вызывает у респондентов вопросы: «Почему вдруг начинаешь ощущать острую тягу к другому человеку? И почему он для других не главный из всех магнитов?» Ответ на эти вопросы остаётся тайной как для исследователей, так и для участвующих в исследовании.
Неоднократно в текстах эссе встречается символ пропасти, возникающий как ощущение после совершённого любимым человеком предательства: «все чувства провалились в какую-то пропасть»; «если любовь уходит от вас, это не так, она просто прячется где-то глубоко внутри. Если мы искренне любили человека, то будет боль адская, боль, которую не вылечишь ничем. Это падение в пропасть» и др. Именно этот символ может рассматриваться нами и как сворачивание внешнего и внутреннего миров человека в одну пространственную точку сингулярности в момент исчезновения любви, потери «смысла» жизни и появления иного экзистенциального переживания «глубинного» аспекта феномена «предательства», но никак не проявление противоречий в любви. Тем не менее «сворачивание» смыслов не свидетельствует об их исчезновении, а лишь о максимальном сжатии всё в той же точке сингулярности. Благодаря этой способности любви, всякий человек априори обладает возможностью пробудить в себе любовь, чувствовать её, наполняться ею и творить её в мыслях, поступках, творчестве. Любовь, проходя через всё существо человека, становится внутренним стержнем, определяющим его жизнестойкость и его роль в жизни.
Таким образом, любовь, на наш взгляд, обладает тремя модусами Бытия. Рождаясь в точке сингулярности, объединяя в единство гендерную двойственность мужского и женского начал, проходя через множественность личностных экзистенциальных смыслов, объединяющихся во всеобщем абстрактном мировом единстве, спустя время она вновь возвращается к точке сингулярности для рождения новых «отношений» и «смыслов». И в этой цикличности трёх модусов в самой любви кроется тот аспект вечности [1, с. 54], который и был выделен Л. Бинсвангером и является, на наш взгляд, смысловой константой самого феномена «любовь».
Мы можем говорить о признании за ним неизменной главенствующей роли в зарождении, развитии и существовании как всеобщего миропроекта, так и частного Бытия конкретного человека, ёмко выраженной в поэтической строчке О.Э. Мандельштама: «И море, и Гомер – всё движется любовью».
Список литературы Роль модуса сингулярности в раскрытии феноменологии чувства любви
- Летуновский В. В. Экзистенциальный анализ в психологии: дис.. канд. психолог. наук. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова. С. 14, 54.
- Котелевский Д. В. Сингулярность//В кн.: Философская энциклопедия -М.: Панпринт, 1998; terme.ru/dictionary/183/word/singuljarnostpsyoffice.ru
- Лэнгле А. Является ли любовь счастьем? (публичная лекция в МПГУ 21 ноября 2007 г.)//www.laengle.info/downloads/ESK
- Маслоу, А. Г. Мотивация и личность/вступ. ст. Н. Н. Акулиной; пер. с англ. А. М. Татлыбаевой. СПб.: Евразия, 1999. -478 с.
- Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. -2-е изд., испр./пер. с англ. М.: Смысл; Альпина нон-фикшн, 2011.
- Белошицкая, Н. М. Представления современной молодёжи о любви в контексте экзистенциального подхода (гендерный аспект): магистерская дис. по специальности «Психология». Хабаровск: ФГБОУ ВПО ДВГГУ, 2014.