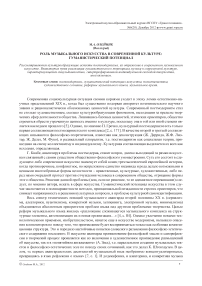Роль музыкального искусства в современной культуре: гуманистический потенциал
Автор: Олейник Марина Алексеевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 6 (20), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются культурообразующие аспекты постмодернизма, их отражение в современном музыкальном искусстве. Выявляются пути реализации гуманистического потенциала музыки в современной культуре, характеризующейся симультанностью, гипертрофированной индивидуальной свободой творчества, многоязычием
Постмодернизм, гуманистический потенциал искусства, полистилистика, художественное сознание, реформы музыкального языка, музыкальное время
Короткий адрес: https://sciup.org/14821848
IDR: 14821848
Текст научной статьи Роль музыкального искусства в современной культуре: гуманистический потенциал
Современная социокультурная ситуация своими корнями уходит в эпоху ломки естественно-научных представлений XIX в., когда был существенно подорван авторитет позитивистского научного знания и рационалистически обоснованных ценностей культуры. Современный постмодернизм стал не столько художественным, сколько культурообразующим феноменом, выходящим за пределы творческих сфер деятельности общества. Лишившись базовых ценностей, этических ориентиров, общество стремится обрести утраченную ценность именно в культуре, поскольку она в той или иной степени является наследием прошлого [5]. Однако, по мнению П. Гречко, культурный постмодернизм есть только первая составляющая постмодернистского комплекса [2, с. 171]. В качестве второй и третьей составляющих называются философско-теоретическая, известная как деконструкция (Ж. Деррида, Ж.Ф. Лиотар, Ж. Делез, М. Фуко), и радикальный плюрализм, т.е. постмодернизм как социальная теория, пришедшая на смену коллективизму и индивидуализму. Культурная составляющая выделяется из всех как исходная, определяющая.
Г. Кнабе, анализируя проблемы постмодерна, ставит вопрос, далеко выходящий за рамки искусства и связанный с самим существом общественно-философского умонастроения. Суть его состоит в следующем: либо современное искусство знаменует собой конец трехтысячелетней европейской истории, когда противоречивое, конфликтное, но непреложное единство индивида и рода делало возможными и ценными многообразные формы целостности – нравственные, культурные, художественные, либо перед нами очередной протест против отчуждения человека в современном обществе, отрицание формы этого общества. Решение данной проблемы (или, если не решение, то ее адекватное переживание) следует, по мнению автора, искать в сфере искусства. Гуманистический потенциал искусства в этом случае заключается в поливариантности методов, принципиальной незаданности строгих ориентиров, что снимает напряженность в решении культурных вопросов, в проблеме культурной самоидентификации.
Весь спектр технических новаций музыкального авангарда второй половины XX в. (сериализ-ма, алеаторики, пуантилизма, конкретной музыки, хеппенинга, электронной музыки, минимализма) объединяется абсолютным приоритетом проблем языка над другими проблемами творчества. Целью реформ музыкального языка явилось «разложение сложившегося музыкального комплекса на структурные элементы, автономизация их и новая организация…» [4, с. 84]. Однако увлечение новыми технологическими приемами, изобретательством, начатое еще в искусстве модернизма, вызывало опасения композиторов по поводу того, что произведение будет восприниматься только как особенная композиционная структура. Это и породило настойчивые попытки словесного разъяснения философско-эстетического содержания последнего. В искусстве авангарда проникновение философской мысли и саморефлек-сии в творческий процесс проявляется как во включении в художественное произведение размышлений об искусстве, так и в «понятийном ангажементе» (А. Зись), т.е. параллельном создании музыкальных текстов и философско-эстетических эссе по поводу своих сочинений, как это делал К. Штокхаузен. В целом, «с первых авангардистских десятилетий музыкальный язык необратимо концептуализировался, превращаясь в язык рефлексии о языке» [7, с. 1]. И додекафония, и алеаторика, и конкретная музыка сделали проблемным само понятие формы, выбор которой становится возможностью сообщить нечто не только музыкой, но и о музыке.
Таким образом, автокомментарии, причем не столько специально музыкальные, сколько концеп-ционные, являются философско-эстетическим основанием произведения и выполняют роль особого языка. Вообще, образ автора как носителя гуманистического начала в современном музыкальном произведении становится чрезвычайно важен, поскольку «в условиях острого дефицита человеческого начала <…> маска автора часто оказывается единственным реальным героем повествования, способным привлечь к себе внимание…» [5, с. 165]. Автору необходимо наладить коммуникативную связь со слушателем, он стремится вступить в диалог от своего имени, а не посредством произведения и лично разъясняет свой замысел. В условиях усложненности художественного языка, нарочитой хаотичности, разомкнутости композиции фигура автора оказалась главным средством поддержания и сохранения процесса коммуникации, смысловым центром музыкального искусства.
Особое состояние постмодернистского художественного сознания способствует развитию характерной формы выражения идей и в философии, и в искусстве, которую М. Хайдеггер называет «поэтическим мышлением». Обладая качествами поэтического мышления, эстетическая практика породила особый тип художественного высказывания, которому свойственны метафоричность, авторизован-ность, неповторимость манеры и характера.
Гуманистический потенциал современного музыкального искусства также реализуется в постоянном появлении «новых языков», что свидетельствует не столько о замене старого новым (новаторские завоевания модернизма были слишком значительными), сколько о расширении одновременно функционирующей языковой системы. Количество языков растет помимо прочего за счет закрепления за определенной персоной особой неповторимой стилистики, почерка, образности, манеры. И полистилистика постмодерна обогащается за счет не только исторического материала, но и языкового материала параллельных культурных слоев.
Информационные технологии вносят изменения в наши представления о строении мира, границы культур и исторических эпох становятся все более зыбкими, появляются невиданные виртуальные пространства. Порой все это воспринимается как культурный хаос, выступающий в качестве современной художественной модели бытия. Видимо, за полистилистической игрой постмодернизма кроется попытка гармонизировать драматические ощущения пространства и времени.
Одним из самых ярких гуманистических проявлений современного искусства стало формирование особо чуткого отношения к неустойчивому положению Человека в Мире, делающего возможным переход к интуитивному мышлению с его повышенной ассоциативностью и метафоричностью, к особому персонифицированному типу творческого высказывания, сходного с родившейся в литературе «метафорической эссеистикой». Индивидуальная свобода в искусстве, к которой шло развитие европейской музыки, приобретает ныне столь крайние формы субъективизации, что начинает утрачивать способность к коммуникации. Стремление адаптироваться к сложившемуся многоязычию и преодолевать замыкание произведения в собственной индивидуальности побуждает композиторов искать «новую простоту». Таково новое решение гуманистической концепции универсальности музыки в художественной культуре постмодерна, возвращающей к первоистокам музыкального языка – к звуку.
История музыкального искусства демонстрирует определенную преемственность в отношении к звуку как таковому. Звук необходим для музыки, являясь ее языковой основой. Он подвергается человеческому воздействию, в процессе которого происходит его «очеловечивание», окультуривание, одухотворение. И дело здесь не в том, что звук как акустическое явление обладает сложными математическими пропорциями. Л. Берио отмечает: его интересует в музыке то, что обрисовывает чудесный феномен, лежащий в основе языка, – звук, становящийся смыслом. А Вебер, отталкиваясь от понимания музыки-звука, говорит, что человек уже на ранней стадии развития был уверен в наличии в звуке внечеловеческой и надчеловеческой силы, посредством которой он вступает в особую связь с миром. По мнению философа, постепенное ослабление рационально-тональных уз в музыке после 1900 г., не- сомненно, связано с одновременным сокрушением чисто рационального, упорядоченного образа мира, но вместе с тем служит в самостоятельности «диссонансов» симптомом исчезновения веры в «гармонию мира» и в центральное положение человека в этом мире. «В этом расширении горизонта, в этом признании внутреннего значения музыки различного рода, я вижу существенное в том новом, что произошло в нашем отношении к музыке в течение последних десятилетий <…> Многое еще только эксперимент, только попытка нового гуманистического обоснования музыки <…> И вообще, еще сегодня, во время брожения и поисков, возникает “великая” музыка» [1, с. 299].
Итак, новое понимание звука определило новую расстановку акцентов в современных музыкально-теоретических системах. Например, в связи с новым ощущением звука, как бы сконцентрированного во времени, К. Штокхаузен даже вводит в современную музыку понятие «момент-форма», «сейчас-форма», т.е. открытая форма, не имеющая ни начала, ни конца. Это влечет за собой совершенно новое понимание универсального музыкального времени, практически не связанного с процессом становления классико-романтической композиции, о которой в свое время писал Б.В. Асафьев.
Культурная картина современного мира характеризуется очевидной симультанностью, т.е. одновременностью разновременного, сосуществованием и взаимодействием разных социально-исторических и культурных «времен». В этой ситуации важно, какие временные ориентиры действуют для современного музыкального искусства, какую новую современность (постсовременность) оно выдвигает в качестве мировоззренческого и культурного стержня.
Список литературы Роль музыкального искусства в современной культуре: гуманистический потенциал
- Вебер А. Кризис европейской культуры. СПб., 1999.
- Гречко П.К. Интеллектуальный импорт, или О периферийном постмодернизме//Общественные науки и современность. 2000. № 2.
- Долгов К.М. Парадоксы и антиномии современной эстетики искусства. Эстетические исследования: методы и критерии. М., 1996.
- Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К. Западный музыкальный авангард после 2-й Мировой войны. М., 1989.
- Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
- Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998.
- Чередниченко Т., Аркадьев М. Диалоги о «постсовременности»: [Об образах музыки будущего]//Муз. акад. 1998. № 1.