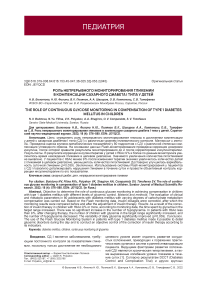Роль непрерывного мониторирования гликемии в компенсации сахарного диабета I типа у детей
Автор: Болотова H.B., Филина Н.Ю., Поляков В.К., Шагиров А.А., Компаниец О.В., Тимофеева С.В.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Педиатрия
Статья в выпуске: 4 т.18, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель: определить роль непрерывного мониторирования глюкозы в достижении компенсации у детей с сахарным диабетом I типа (СД I) с различным уровнем гликемического контроля. Материал и методы. Проведена оценка клинико-метаболических показателей у 80 подростков с СД I с различной степенью компенсации углеводного обмена. На основании данных Flash-мониторирования проведена коррекция дозировок инсулина, после которой сравнили результаты мониторирования до и после корректировки инсулинотерапии. Результаты. В результате коррекции инсулинотерапии у детей сНЬАс9% и более поданным мониторинга увеличилось время нахождения гликемии в целевом диапазоне. Значимого увеличения количества гипогликемии не выявлено. У пациентов с НЬАс менее 9% после изменения терапии значимо увеличилось количество детей с гликемией в целевом диапазоне, уменьшилось количество гипогликемии. Достоверно улучшилась вариабельность суточной гликемии (р=0,039). Заключение. Использование системы Flash-мониторирования у пациентов с СД I позволило детализировать нарушения гликемии в течение суток и провести объективный контроль коррекции инсулинотерапии по его показателям.
Дети, непрерывное мониторирование гликемии, сахарный диабет
Короткий адрес: https://sciup.org/149142943
IDR: 149142943 | УДК: 616.379-008.64:616.153.45-047.36-025.32]-053.2(045)
Текст научной статьи Роль непрерывного мониторирования гликемии в компенсации сахарного диабета I типа у детей
Corresponding author — Vadim K. Polyakov
Тел.: (8452) 525187; +7 (905) 3232165
исследований, интенсивная терапия СД I, включающая частый регулярный самоконтроль гликемии, позволяет снизить выраженность осложнений СД I и предотвратить их формирование [2, 3].
Общепринятым показателем, отражающим степень компенсации СД I, является уровень гликированного гемоглобина HbA1c [4, 5]. Однако он дает представление только о средней концентрации глюкозы за последние 3 мес. и не позволяет выявить эпизоды гипо- или гипергликемии в течение суток, не отражает ежедневной гликемической вариабельности и истинных значений гликемии у пациентов с анемией, гемоглобинопатиями и дефицитом железа [4–7].
В связи с этим в последнее время в ежедневной практике эндокринологов все более широкое применение находит непрерывный мониторинг гликемии (НМГ). Это метод регистрации изменений концентрации глюкозы в крови, который фиксирует результаты каждые 5 мин на протяжении длительного времени — несколько суток [8–10].
НМГ, помимо увеличения числа измерений глюкозы, предоставляет информацию о характере изменений уровня глюкозы, позволяет отследить наличие скрытых ночных гипогликемий, постпрандиальных гипергликемий, что дает возможность корректировать сахароснижающую терапию. Приборы для НМГ можно совмещать с инсулиновой помпой, что позволяет автоматически регулировать или приостанавливать подачу базального инсулина в ответ на гликемические изменения [11]. С 2014 г. в Европе появилось новое устройство, не требующее калибровки пользователем, известное как система Flash-мониторинга глюкозы (Flash Glucose Monitoring System, FreeStyle Libre). Система использует датчик, который устанавливается на заднюю поверхность плеча на срок до 14 дней [12, 13]. Каждую минуту данные о гликемии передаются на считывающее устройство и отображаются в момент, когда считывающее устройство подносится к имплантируемому сенсору, позволяя получать информацию об уровне глюкозы. Система совместима с современными устройствами Android и iOS, на экране которых отображается вся история значений глюкозы за последние 24 ч, а также тенденция к изменению уровня глюкозы. Полученные датчиком показатели используются для построения различных гликемических профилей, позволяющих наглядно и эффективно проводить анализ данных для принятия решений по коррекции инсулинотера-пии [14].
Цель — определить роль непрерывного мониторирования глюкозы в достижении компенсации у детей с сахарным диабетом I типа с различным уровнем гликемического контроля.
Материал и методы. Проведено одноцентровое когортное исследование, включающее два этапа. На первом этапе проведено комплексное клинико-лабораторно-инструментальное обследование 80 детей с СД I в возрасте 12–18 лет, из них 32 (40,0%) девочек и 48 (60,0%) мальчиков. Дети обследовались в эндокринологическом отделении Университетской клинической больницы № 1 имени С. Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского в период 2020–2022 гг. Все пациенты, в зависимости от степени компенсации заболевания, были разделены на две группы: I группа — подростки с HbA1C, равным или более 9,0% ( n =35); II группа — пациенты с HbAIC менее 9,0% ( n=45), среди них 6 подростков, имеющих оптимальный уровень HbAIC (7,0%).
Критериями включения в исследование явились подписанное информированное согласие на участие в исследовании родителей и самих пациентов в возрасте 15–18 лет; наличие СД I без кетоза, с показателями HbA1c более 7,0%, с длительностью СД I — от 1 года до 10 лет.
Критериями исключения пациентов из исследования являлись наличие диабетического тяжелого кетоацидоза, тяжелой гипогликемии в течение последних 3 мес. перед началом исследования, тяжелые соматические заболевания, наличие СД не первого типа.
В ходе второго этапа исследования методом случайной выборки из общей когорты детей выделены 20 пациентов I группы и 21 пациент II группы, которым было проведено НМГ с помощью системы FreeStyle Libre. Проведен анализ суточного НМГ в течение 7 дней, затем проведена коррекция дозировок инсулина и вновь выполнена оценка результатов мониторирования также в течение 7 дней.
Исследование одобрено этической комиссией университета по контролю над исследовательскими работами с участием человека (протокол № 1 от 01.09.2020).
Клиническое обследование включало сбор анамнеза, жалоб, оценку параметров физического, полового развития, объективный осмотр.
Физическое развитие оценивалось по результатам антропометрии с расчетом индекса массы тела (ИМТ) и коэффициентов стандартного отклонения (Standard Deviation Score — SDS) роста и массы. Половое развитие оценивалось по шкале J. M. Tanner (1980) [цит. по: 15].
Клиническое, лабораторно-инструментальное обследования пациентов проводились согласно стандартам оказания медицинской помощи детям с СД I. Всем детям проведено исследование гликемического профиля, включающего 7 измерений глюкозы крови: натощак, перед едой, через 2 ч после еды, перед сном (24.00) и в 3.00 ночи. Уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1C) определялся на аппарате Bio-Rad (США). НМГ проводился с помощью системы Flash-мониторирования FreeStyle Libre (США), результаты которого оценивали до и после проведения коррекции инсулинотерапии. Для оценки состояния углеводного обмена использовали показатели: время нахождения пациента в целевом диапазоне гликемии, который должен составлять не менее 70% времени; кратность, тяжесть и время возникновения гипогликемических состояний. Вариабельность гликемии оценивалась по коэффициенту вариабельности ( CV ), рассчитываемому по формуле CV = CD /menx100%, где CD — стандартное отклонение от среднего значения, men — среднее значение гликемии. Оптимальное значение CV не должно превышать 36% [16]. Определяли показатели жирового обмена: триглицериды, общий холестерин и его фракции: липопротеиды высокой и низкой плотности; рассчитывался индекс атерогенности.
Статистическая обработка полученных данных проведена при помощи пакетов программ XL Statistics version 6.0 (Rodney Carr, Австралия, 1998) и Microsoft Exel 2010. Размер выборки заранее не рассчитывался. Все данные представлены в виде медианы с указанием величин 1-го и 3-го квартилей ( Ме [Q1; Q3]). Использовались методы непараметрической статистики. Для оценки наличия статистически значимых отличий между двумя независимыми группами использовался критерий Манна — Уитни.
Различия между показателями считали статистически значимыми при р <0,05.
Результаты. Манифестация СД I у детей обеих групп проявлялось классическими симптомами полиурией, полидипсией, похуданием. В клинику дети поступали с жалобами на колебания уровня глюкозы, высокие показатели гликемии. Длительность диабета у детей I группы составила 7,4 [4,1; 10,8] года у детей II группы 6,3 [2,4; 10,5] года.
Отягощенная наследственность по СД I отмечалась у 6 (17,1%) детей I группы и у 7 (15,6%) — II группы.
Микрососудистые осложнения в виде диабетической полинейропатии наблюдались у 15 (42,9%) детей I группы и у 8 (17,8%) пациентов II группы, диабетическая нефропатия в стадии микроальбуминурии диагностирована у 6 (17,1 %) детей I группы и у 4 (8,9%) обследуемых II группы.
Анализ данных физического развития показал, что 32 (91,4%) детей I группы и 42 (93,3%) детей II группы имеют средние показатели роста, медиана SDS их роста соответствует 0,54 [–1,46; +1,60] и 0,48 [–1,32; +1,51] в I и II группах соответственно. У 7 (8,7%) пациентов показатели SDS роста соответствовали значениям низкорослости. Причиной низкорослости у 2 (2,5%) мальчиков явилась семейная форма. Однако у 5 (6,3%) подростков задержка роста сочеталась с задержкой пубертата на фоне длительной хронической декомпенсации СД I (HbA1с — 11,80 [10,9; 14,3]). При проведенном углубленном обследовании других причин задержки развития не было выявлено, что указывает на декомпенсацию как причину низкорослости у этих детей.
ИМТ соответствовал возрастным нормативам у 29 (82,9%) детей I группы и у 40 (88,9%) — II группы. В I группе было 3 (8,5%) детей с дефицитом массы тела и 3 (8,5%) пациента имели избыточную массу тела (ИМТ 27,6 [26,2; 29,8]). Во второй группе у 5 (11,1 %) подростков с длительностью заболевания более 5 лет отмечалось ожирение I степени. У 9 (25,7%) девочек I группы и у 6 (13,3%) — II группы выявлены нарушения менструального цикла в виде олиго- и дисменореи.
Всем детям проведен анализ состояния углеводного обмена и адекватности инсулинотерапии по результатам измерения глюкозы крови в 7 точках в течение первых 3 дней пребывания в стационаре. Высокие значения глюкозы крови у 33 (94,3%) детей I группы отмечались практически во всех точках измерения и колебались от 10,2 [8,8; 11,6] ммоль/л натощак до 16,2 [10,0; 22,6] ммоль/л после еды (р=0,051), что свидетельствовало о дефиците как базального, так и прандиального инсулина. У 22 (48,9%) подростков II группы отмечалось повышение гликемии натощак и/или наличие эпизодов как ночных подъемов гликемии, так и в течение дня, что отражается большим разбросом тощаковой 7,9 [4,7; 12,3] ммоль/л и постпрандиальной гликемии 12,6 [8,9;
-
19,2] ммоль/л у пациентов этой группы ( р =0,064).
Медиана показателя гликированного гемоглобина у пациентов I группы имела статистические отличия от показателя II группы и составила 10,40% [9,7; 14,1] и 7,90% [6,8; 8,8] соответственно.
Анализ частоты самоконтроля в домашних условиях показал, что в I группе 6 детей (17,1 %), а во II — 8 (17,8%) определяли уровень глюкозы 3 раза в день и менее, это были подростки со стажем заболевания более 5 лет. Половина пациентов — 18 (51,4%) в I группе и 22 (48,9%) — во II группе — контролировали глюкозу крови 5–6 раз в сут. Контроль гликемии 7-10 раз в сут. проводили 11 (31,4%) пациентов I группы и 15 (33,3%) больных II группы, чаще всего это были подростки с длительностью болезни менее 5 лет.
Контроль уровня HbA1c каждые 3 мес. проводили только 7 (20,0%) детей I группы и 10 (22,2%) — II группы. Один раз в 6 мес. гликированный гемоглобин определяли у 15 (42,9%) детей I группы и 21 ребенка (46,7%) II группы. Контроль гликированного гемоглобина 1 раз в год и реже проводили 13 (37,1%) пациентов I группы и 14 (31,1%) — II группы.
При анализе показателей жирового обмена было установлено, что у пациентов II группы регистрировались статистически значимые более высокие уровни общего холестерина, триглицеридов и липопротеидов низкой плотности (таблица), что, возможно, связано с особенностями углеводного обмена, его вариабельностью, наличием гипогликемий. Содержание липопротеидов высокой плотности в обеих группах находилось в диапазоне физиологических значений и не обнаружило статистически значимых различий у подростков изучаемых групп, что наглядно продемонстрировано в таблице.
В ходе второго этапа исследования методом случайной рандомизации из общей когорты детей были выделены 20 больных I группы и 21 — II группы. Данным пациентам было проведено НМГ с помощью систем Flash-мониторинга глюкозы FreeStyle Libre. Проведен анализ суточного мониторирования гликемии в течение 7 дней, затем проведена коррекция дозировок инсулина и выполнена оценка результатов мониторирования также в течение 7 дней.
Анализ результатов начального мониторирования показал, что медиана процентного времени нахождения в целевом диапазоне у детей I группы составила только 46,7 [11,7; 62,1]. Ни у одного из пациентов I группы гликемия в течение суток не находилась более 70% времени в целевом диапазоне. Данные НМГ подтверждали выраженный дефицит как базального, так и прандиального инсулина, отмеченный при контроле в 7-точечном профиле. Количество
Показатели липидного обмена у пациентов изучаемых групп, Ме [Q1; Q3]
|
Показатели |
Группа |
р |
|
|
I ( n =35) |
II ( n =45) |
||
|
Общий холестерин, ммоль/л |
5,29 [3,98; 6,03] |
5,67 [4,11; 6,49] |
0,035 |
|
Триглицериды, ммоль/л |
1,51 [0,98; 1,94] |
1,67 [1,14; 2,06] |
0,048 |
|
Липопротеиды высокой плотности, ммоль/л |
1,34 [1,11; 1,62] |
1,39 [1,03; 1,67] |
0,322 |
|
Липопротеиды низкой плотности, ммоль/л |
3,24 [2,29; 4,06] |
3,39 [2,38; 4,29] |
0,043 |
|
КА |
3,22 [2,17; 4,23] |
3,28 [2,21; 4,06] |
0,147 |
П р и м еч а н и е : КА — индекс атерогенности, р — значимость различий показателей I и II групп по критерию Манна — Уитни.
гипогликемий было незначительным: так, выявлено 9 эпизодов легких гипогликемий (1 ночная и 8 дневных), что составило 0,45 эпизода на одного пациента за 7 дней. Оценка вариабельности свидетельствует об умеренном повышении коэффициента вариабельности у детей данной группы 41,2 [38,6; 49,3].
Через 7 дней в результате проводимой коррекции терапии с повышением суточной дозы инсулина процентное время нахождения в целевом диапазоне по данным НМГ увеличилось до 68,7 [64,2; 78,1], что имело статистические отличия от первоначальных данных ( p =0,043). При этом значимого увеличения количества гипогликемий не выявлено. Зафиксировано 11 эпизодов легких гипогликемий (1 ночная и 10 дневных), что составило 0,55 эпизода на одного пациента за 7 дней. Коэффициент вариабельности снизился до 39,6 [35,1; 46,7], но не имел достоверных отличий от исходных данных ( р =0,3).
Ситуация с гликемией во II группе характеризовалась малым процентным временем пребывания в целевом диапазоне и высоким уровнем ее вариабельности в течение суток. Всего 5 (23,8%) пациентов находились в целевом диапазоне более 70% времени суток, остальные 16 (76,2%) детей были более 30% времени вне зоны контроля: при этом наряду с высокими значениями глюкозы у пациентов имелись периоды скрытых и явных клинических гипогликемий. За период оценки результатов НМГ (в течение 7 дней) выявлены 68 эпизодов легких гипогликемий (22 ночных и 46 дневных), что составило 3,24 эпизода на одного пациента данной группы за 7 дней. Отмечена также высокая вариабельность гликемии, что подтверждается значительным увеличением медианы коэффициента вариабельности 56,4 [42,7; 61,4]
Проведена коррекция терапии, которая включала, чаще всего, снижение дозы инсулина либо его перераспределение в течение суток. После изменения терапии количество детей, пребывающих в целевом диапазоне более 70% суточного времени, увеличилась до 15 (71,4%), что имело статистические отличия от изначальных данных ( p =0,004). Так же более чем в 2 раза уменьшилось количество гипогликемий, всего зафиксированы 34 легкие гипогликемии (7 ночных и 27 дневных), то есть 1,62 гипогликемии на одного пациента за 7 дней ( р =0,007). Достоверно улучшилась вариабельность суточной гликемии, ее медиана стала 40,8 [35,3; 56,1] ( p =0,039).
Обсуждение. Борьба с СД I остается одной из самых актуальных проблем современной медицины, что связано с постоянным ростом заболеваемости, ранней инвалидизацией и смертности пациентов. Основной целью лечения детей с СД I является достижение максимально близкого к физиологическому профилю инсулиновой секреции и достижение близких к норме показателей углеводного обмена [1, 17].
Поддержание гликемического контроля в детском возрасте является сложным процессом. Дети и подростки — группа пациентов с особым социальнопсихологическим статусом и поведенческими реакциями, осложняющими применение любого режима введения инсулина.
В нашем исследовании показано, что дети получали различные современные виды инсулинов и практически все имели нормальные показатели физического развития, что не отличало их от здоровых сверстников. Однако при углубленном обследовании у детей обеих групп выявлено нарушение липидного обмена в виде гиперхолестеринемии, триглицеридемии, повышения уровня липопротеидов низкой плотности. При этом у детей с более низкими значениями HbA1c эти нарушения оказались более выражены. Объяснить данный факт помогло НМГ. Его показатели свидетельствовали о том, что пациенты II группы имели более высокую вариабельность гликемии, что связано с наличием большого количества гипогликемий, что и определяла у них развитие дислипидемии.
Назначение инсулинотерапии является сложной задачей и требует высокой мотивации пациента. По данным регистра Саратовской области за 2021 г., 58,6% детей в возрасте 8-12 лет, 62,2% подростков и 45,9% взрослых пациентов с СД I не достигают целевых значений HbA1c [17]. По нашим данным, анализ частоты самоконтроля в домашних условиях показал, что в I группе — 6 (17,1%), а во II группе — 8 (17,7%) детей определяли уровень глюкозы 3 раза в день и менее, это были подростки со стажем заболевания более 5 лет.
Коррекция инсулинотерапии, проведенная под контролем НМГ, позволила значительно улучшить углеводный обмен у пациентов обеих групп, что отразилось на результатах, оценивающих показатели времени пребывания в целевом диапазоне, кратность гипогликемий и вариабельность гликемии. Эти результаты полностью сопоставимы с данными, представленными в литературе [17–20].
Заключение. Таким образом, использование системы Flash-мониторирования у пациентов сСД I позволило детализировать нарушения гликемии в течение суток за счет определения продолжительности нормо-, гипо- и гипергликемии, амплитуды колебаний и времени нахождения в целевом диапазоне, особенно у пациентов, имевших скрытые гипогликемии, а также провести коррекцию дозировок и схем вводимого инсулина. Значительное улучшение показателей углеводного обмена, несомненно, способствует снижению риска развития осложнений СД I, улучшению качества жизни пациентов.
Список литературы Роль непрерывного мониторирования гликемии в компенсации сахарного диабета I типа у детей
- Dedov II, Shestakova MV, Mayorov AYu. Algorithms of specialized medical care for patients with diabetes mellitus. 10th issue. Moscow: UP PRINT, 2021. (In Russ.) Дедов И. И., Шестакова М. В., Майоров А. Ю. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. 10‑й вып. М.: УП ПРИНТ, 2021.
- DCCT Research Group (Diabetes Control and Complications Trial Research Group). Effect of intensive diabetes treatment on the development and progression of long-term complications in adolescents with insulin-dependent diabetes mellitus: Diabetes Control and Complications Trial. J Pediatr. 1994; (125): 177–88.
- Nathan DM, Zinman B, Cleary PA, et al. Modernday clinical course of type 1 diabetes mellitus after 30 years’ duration: the diabetes control and complications trial epidemiology of diabetes interventions and complications and Pittsburgh epidemiology of diabetes complications experience (1983–2005). Arch Intern Med. 2009; (169): 1307–16.
- Bry L, Chen PС, Sacks DB. Effects of hemoglobin variants and chemically modified derivatives on assays for glycohemoglobin. Clinical Chemistry. 2001; (47): 153–63.
- Gitel EP, Gindis AA, Panin VV. Actual aspects of determination and interpretation of the results of the study of glycated hemoglobin. Clinical Laboratory Diagnostics. 2019; (8): 452–8. (In Russ.) Гитель Е. П., Гиндис А. А., Панин В. В. Актуальные аспекты определения и трактовки результатов исследования гликированного гемоглобина. Клиническая лабораторная диагностика. 2019; (8): 452–8.
- Li SH, Harro D, Alfsen J. Effect of diabetes mellitus on sickle hemoglobin quantitation in sickle cell trait. Am J Clin Pathol. 2018; 150 (2): 105–5.
- Lutsenko LA. The role of glycated hemoglobin in the diagnosis and monitoring of diabetes mellitus. Kidneys. 2014; 4 (10): 7–11. (In Russ.) Луценко Л. А. Роль гликированного гемоглобина в диагностике и мониторинге сахарного диабета. Почки. 2014; 4 (10): 7–11.
- Garg S, Zisser H, Schwartz S, et al. Improvement in glycemic excursions with a transcutaneous, real-time continuous glucose sensor: a randomized controlled trial. Diabetes Care. 2006: (29): 44–50.
- Thomas D, Revital N, Tadej B, et al. International Consensus on Use of Continuous Glucose Monitoring. Diabetes Care. 2017; 40 (12): 1631–40.
- Demidova TYu, Ushanova FO. Modern technologies of continuous monitoring of glycemia: developing possibilities of control and management. Russian Medical Journal. 2018; 11 (II): 86–90. (In Russ.) Демидова Т. Ю., Ушанова Ф. О. Современные технологии непрерывного мониторинга гликемии: развивающиеся возможности контроля и управления. РМЖ. 2018; 11 (II): 86–90.
- Davis T, Salahi А, Welsh JB. Automated insulin pump suspension for hypoglycaemia mitigation: development, implementation and implications Diabetes Obes Metab. 2015; 17 (12): 1126–32.
- Campbell FM, Murphy NP, Stewart C, et al. Outcomes of using flash glucose monitoring technology by children and young people with type 1 diabetes in a single arm study. Pediatr. Diabetes. 2018; 19 (7): 1294–1301.
- Messaaoui A, Tenoutasse S, Crenier L. Flash glucose monitoring accepted in daily life of children and adolescents with type 1 diabetes and reduction of severe hypoglycemia in real-life use. Diabetes Technol Ther. 2019; 21 (6): 329–35.
- Peterkova VA, Ametov AS, Mayorov AYu, et al. Resolution of the Scientific Advisory Council “Application of continuous glucose monitoring technology with periodic scanning to achieve glycemic control”. Diabetes Mellitus. 2021; 24 (2): 185–92. (In Russ.) Петеркова В. А., Аметов А. С., Майоров А. Ю. и др. Резолюция научно-консультативного совета «Применение технологии непрерывного мониторинга глюкозы с периодическим сканированием в достижении гликемического контроля». Сахарный диабет. 2021; 24 (2): 185–92.
- Lopatina LA, Seryozhenko NP, Sokolov DA. Anthropometric characteristics of young men according to the classification of J. Tanner. I. P. Pavlov Russian Medical Biological Herald. 2014; (1): 141–7. (In Russ.) Лопатина Л. А., Сереженко Н. П., Соколов Д. А. Антропометрическая характеристика юношей по классификации Дж. Таннера. Российский медико-биологический вестник им. акад. И. П. Павлова. 2014; (1): 141–7.
- Antsiferov MB, Demidov NA, Koteshkova OM, et al. Assessment of the variability of the glycemic level based on selfcontrol. Results of the pilot project. Endocrinology: News, Opinions, Training. 2021; 10 (2): 26–31. (In Russ.) Анциферов М. Б., Демидов Н. А., Котешкова О. М. и др. Оценка вариабельности уровня гликемии на основе самоконтроля. Результаты пилотного проекта. Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2021; 10 (2): 26–31.
- Peterkova VA, ed. Diabetes mellitus in children and adolescents: ISPAD Consensus on Clinical Practice: 2014. Moscow: GEOTAR-Media, 2016; 656 р. (In Russ.) Петеркова В. А., ред. Сахарный диабет у детей и подростков: Консенсуc ISPAD по клинической практике: 2014 год. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016; 656 с.
- Klimontov VV, Mayakina NE. Glycaemic variability in diabetes: a tool for assessing the quality of glycaemic control and the risk of complications. Diabetes Mellitus. 2014; 17 (2):76–82. (In Russ.) Климонтов В. В., Маякина Н. Е. Вариабельность гликемии при сахарном диабете: инструмент для оценки качества гликемического контроля и риска осложнений. Сахарный диабет. 2014; 17 (2): 76–82.
- Vergier J, Samper M, Dalla-Vale F, et al. Evaluation of flash glucose monitoring after long-term use: A pediatric survey. Prim Care Diabetes. 2019; 13 (1): 63–70.
- Deeb A, Yousef H, Qahtani NA, et al. Novel ambulatory glucose-sensing technology improves hypoglycemia detection and patient monitoring adherence in children and adolescents with type 1 diabetes. J Diabetes Metab Disord. 2019; 18 (1): 1–6.