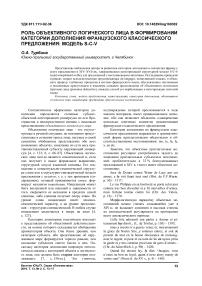Роль объективного логического лица в формировании категории дополнения французского классического предложения: модель S-C-V
Автор: Турбина Ольга Александровна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: История языка
Статья в выпуске: 3 т.13, 2016 года.
Бесплатный доступ
Представлены наблюдения автора за развитием категории дополнения в синтаксисе французского предложения в XIV-XVII вв., завершившиеся категоризацией структурной модели S-C-V (sujet-complément-verbe) для предложений с местоименными актантами. Исследование проведено в рамках теории психосистематики (psycomécanique du langage), позволяющей описать и объяснить природу глубинных процессов в системе французского языка, обусловленных постоянным и неизменным присутствием в языковом сознании представления об объективном логическом (третьем) лице (personne delocutive), показать способ его вербализации и категоризации системой языка.
Модель предложения, категоризация, категория дополнения, объективное логическое лицо, инциденция, предикация, приглагольные местоимения
Короткий адрес: https://sciup.org/147154015
IDR: 147154015 | УДК: 811.111+82-36 | DOI: 10.14529/ling160302
Текст научной статьи Роль объективного логического лица в формировании категории дополнения французского классического предложения: модель S-C-V
Синтаксическое оформление категории дополнения определяется степенью субъект-объектной категоризации универсума по оси Пространства и непосредственно связано с языковым представлением объективного логического лица.
Объективное логическое лицо – это отсутствующее в речевой ситуации, но неизменно присутствующее в сознании третье лицо, несущее в своей семантике обобщенное представление обо всех возможных объектах, охватывая по сути весь противопоставленный субъекту окружающий универсум [4, с. 123; 6, с. 66–67]. Объективное логическое лицо всегда является семантической и, если оно получает в языке формальное выражение, структурной опорой языковой единицы. Его совпадение в концептуально-семантической структуре слова или в структурно-синтаксической модели предложения с вкладом , т. е. с тем признаком (содержанием), который присваивается опоре , формирует механизм инциденции . Инциденция может быть внутренней или внешней в зависимости от того, свершается ее механизм в пределах одной единицы, либо единица получает опору извне. На уровне слова инциденция имеет лексикосемантический характер, а на уровне предложения – структурно-синтаксический. В любом случае инциденция заключается в опоре на лицо [4, с. 123].
Категория дополнения генетически восходит к представлению об объективной действительности, на основе которого складывается обобщенная архикатегория объекта. Она более древняя, чем категория субъекта, ибо представление об окружающем мире формируется гораздо раньше, чем осознание субъектом своего бытия в нем. Поскольку категория дополнения напрямую онтологически связана с категорией объекта и логического лица, она должна быть старше категории подлежащего [7, с. 156-сл.]. Эта гипотеза, подтверждение которой прослеживается в ходе анализа материала, имеет принципиальное значение, ибо она позволяет объяснить одновременно несколько ключевых моментов грамматизации французского классического предложения.
Категория дополнения во французском классическом предложении выражается в грамматической форме приглагольными объектными и обстоятельственными местоимениями: me, te, la, le, y, en etc.
Заметим, что объектные приглагольные местоимения регулярно употреблялись задолго до появления приглагольных субъектных местоимений: приблизительно в 32 % бесподлежащных предложений в XIV в. глагол имеет объектное местоимение:
Le roy Philippe en sa hostiveté se porta celui jour comme tres bon chevalier et y fit merveilles d’armes, mais fortune tourna contre lui (Chr. des Valois, p. 16) – 1370.
Морфологическую парадигму объектных местоимений можно считать сложившейся уже в XIV в.; не вызывает сомнения и высокая степень их синтаксической регулярности на протяжении всего доклассического периода:
Celle foiz adressoit son parler а Amour et pi-teusement luy disoit... (L. de Troilus, p. 130) – 1395;
nous y soyons n’a gueres venuz et, moyennement la grace du Nostre Sire, y sommes entrez, et soit de present du tout en la bonne obeissance de monseigneur le regent, et pour et ou nom de lui en ayons prins la garde et y mis certaine provision de gens d’armes... (Chr. du Saint Mich. I, p. 98) – 1420;
Cлучаи неупотребления приглагольного объектного местоимения исключительно редки уже в XIV в.:
Et lendemaint Joseph pria Pharaon que il li don-nast Asseneth а fame; et il li donna, et leur mist cou-ronnes d’or les milleurs que il avoit, et les fist entre-besier l’un et l’autre, leur fist grans noces et grans disners (Asseneth, p.11–12) – 1333.
Здесь опущение прямообъектного приглагольного местоимения [la] в предикативном ядре il li [la] donna объясняется непосредственной близостью антецедента в тексте. Возможно, что прямообъектное la заняло бы позицию между субъектным и косвеннообъектным местоимениями: il [la] li donna. В текстах более поздних периодов подобных примеров не отмечено.
Синтаксическая регулярность приглагольных объектных местоимений в текстах доклассическо-го периода свидетельствует о том, что категория дополнения во французском предложении грамматически оформилась уже к концу XIV в.
Интересен тот факт, с очевидностью проявляющийся начиная с XVI в., что позиция подлежащего остается незаполненной преимущественно перед глаголом с приглагольным объектным местоимением:
Somme, que je voy un abysme de science: car, doresnavant que tu deviens homme et te fais grand, il te faudra yssir... (Rabelais, p.5) – 1532.
В этом примере, который достаточно наглядно отражает положение вещей в XVI в., из четырех предикативных групп: je voy, tu deviens, te fais, il te fauldra – только в одной нет подлежащего, но есть объектное местоимение, позволяющее подлежащему отсутствовать. В последней предикативной группе, где также есть приглагольное объектное местоимение, позиция подлежащего заполнена в силу высокой степени субъектной категоризации безличного местоимения il1. В первой половине XVII в. эта особенность становится все более явной: заполнение приглагольной позиции подлежащего обратно пропорционально заполнению приглагольной позиции дополнения объектным местоимением. Это подводит к неизбежному выводу о том, что глагол-сказуемое во фразе может опираться не только (и не столько) на подлежащее, но и на дополнение. При этом опора на дополнение определилась раньше опоры на подлежащее в силу наиболее явной онтологической связи категории дополнения, представляющей собой интерпретацию и предельную степень абстракции всех возможных объектов, с объективным логическим лицом.
Переходные глаголы, валентностные свойства и семантическая сочетаемость которых определяют их глубинную опору на объектное лицо, на прямой объект, довольно долго употребляются без субъектных местоимений. Так, например, высоко- частотный по употреблению глагол dire, концептуальная структура которого подразумевает наличие объекта, редко употребляется с субъектным местоимением вплоть до середины XVII в. Объектное же местоимение при подобного рода глаголах оформляет грамматизацию прямообъектной категории дополнения значительно раньше и достигает высокой степени логико-грамматической абстракции: местоимение le, как актуализатор категории объекта при переходном глаголе, появляющееся в текстах французского классического чаще других прямообъектных приглагольных местоимений, способно обходиться не только без антецедента, но и вообще без какого-либо определенного денотата. Возможно, что замедлению грамматизации субъектных местоимений 3-го порядкового лица в некоторой степени способствовал фактор избыточности значения логического (3-го) лица при употреблении и субъектного, и объектного местоимений: глаголу было достаточно опоры на объектное местоимение.
В конструкциях с громоздкими парантезами, широко распространенными в XVII в., где подлежащее-имя занимает крайне дистантную позицию относительно глагола-сказуемого, также наблюдается стремление глагола опереться на объектное местоимение:
Mr le Conte Bardi, de qui est le sonnet italien que je vous ay envoyé, et qui a pour titre Bella donna chi-nuecehia, m ’a donné la copie de l’Oraison manuscritte de Mr La Casa (Chapelain. Lettres. I, p. 673) – 1640.
При этом степень дистантности членов предикативного ядра непосредственно зависит от употребления перед глаголом объектного местоимения: в среднем в 1-й половине XVII в. в предложениях с громоздким интеркалированным элементом глагол имеет опору на объектное местоимение на 18 % чаще, чем в предложениях с интеркаляцией отдельного слова. В целом же в XVI в. глагол употреблен с объектным местоимением в 46 % предложений с дистантными членами предикативного ядра:
Les Anglais, qui avoient chassé leur roi, pour prétexte de défendre et concerner leur religion, la voyoient changer en tièrement (La Fayette. Mem., p. 100);
Les dieux, répondit-il, qui nous ont préservés des traоtres, nous défendent de nous en servir (Fénélon. T., p. 384);
M. de Louvois, qui savoit l’impatience où étoit le roi de savoir des nouvelles, lui alla porter celle-lа au sermon (La Fayette. Mem., p. 25).
Архаичная традиция глагола опираться на дополнение запечатлелась в порядке компонентов предложения (предикативного ядра) с местоименными актантами, строящегося по модели S-C-V (sujet-complément2-verbe), где более поздняя грам- матизация подлежащего не вытеснила дополнение в глагольную постпозицию. Примечательно, что даже в вопросительных предложениях и в прочих типах конструкций, где подлежащее-местоимение инвертировано, объектное местоимение остается на прежнем месте – перед глаголом:
Je sçay que changerez d’avis, et l ’eussiez-vous juré mille fois (Larivey. Tromperies, p.23) – 1610.
Высокая степень грамматизации французского предложения с местоименными актантами свидетельствует о том, что французский глагол при помощи приглагольных местоимений, которые, по сути, превратились в препозитивные флексии, способен эксплицитно выражать не только субъект, но и объект. «При русском соответствии с подлежащим, сказуемым и двумя дополнениями “ я тебе это говорю ” , – указывает И.И. Мещанинов, – во французском языке выступает одночленное построение je-te-le-dis, в котором нет ни подлежащего, ни косвенного дополнения, а имеется лишь одна глагольная форма» [1, с. 280; 5, с. 210]. Действительно, существуют серьезные основания расценивать подобные построения как более слитную синтаксическую единицу, чем инкорпорированное целое [5, c. 41], ибо фонетически, морфологически и синтаксически – это одно аналитическое слово. В.фон Вартбург отмечает, что французский разговорный язык все регулярней употребляет номинатив (приглагольное субъектное местоимение), даже если подлежащее выражено существительным: mon frère il chante, что, по его мнению, показывает, в какой степени бывшее спрягаемое местоимение превратилось в простую префиксальную морфему глагола, и на самом деле фраза состоит из двух фонетических слов: mon frère и il chante [3, с. 115, 165; 8, с. 180]. М.А. Бородина и Л.М. Скрелина также указывают на агглютинацию приглагольных местоимений с глаголом [2, с. 15], а Ж. Вандриес пишет: «Мы на письме отделяем „пустое слово“ от „слова полного“, но это только графическая привычка» [3, с. 161].
Мнение вышеупомянутых ученых и приведенные в данной статье материалы из истории французского языка позволяют заключить, что французский глагол посредством приглагольных личных местоимений реализует свою функцию синтаксического развертывания – функцию структурной организации предложения. Так, хотя в построении je-te-le-dis нет полнозначных в лексическом и полноценных в синтаксиическом отношении подлежащего и дополнений, в нем присутствуют совершенно определенным в грамматическом отношении образом выраженные категории подлежащего, дополнений и сказуемого, придающие такому построению статус предложения вне всякого контекста, ибо в силу актуализи-рованности его грамматической формы предикация выражена эксплицитно.
Cледовательно, предложение (предикативное ядро) с местоименными элементами как языковая единица, достигшая высокого уровня грамматиза-ции, представляет собой, результат предельной степени абстракции всех возможных предложений, являясь как бы обобщенным застывшим отпечатком древнего предложения: известно, что латинское предложение строилось по принципу рамочной конструкции, когда имя-подлежащее начинало, а глагол-сказуемое заканчивал предложение. Дополнения же помещались в контактную препозицию относительно глагола, оттесняя подлежащее. В связи с этим можно предположить, что уже тогда опорой глаголу было скорее имя-дополнение, чем имя-подлежащее.
Это предположение подтверждается в процессе анализа порядка слов доклассического периода, когда глагол в силу обретаемой функции синтаксического развертывания и в связи со все более углубляющимся характером внешней инциденции стремится переместиться в центр предложения. Примечательно, что контактную препозицию относительно глагола занимало часто имя-дополнение (прямое, косвенное или обстоятельственное), оттесняя имя-подлежащее в постпозицию:
En Ellesmere fust un autre tour , et sur l’ewe de
et en la destre partie de cel estre estoit une fontaine vive (Asseneth, p.4) – 1333;
– или в дистантную препозицию:
Et tantost le roy Philippe de France o son Host chevaucha jusques а Amiens (Chr. des Valois, p.9) – 1370.
При отсутствии подлежащего имя-дополнение также стремилось по традиции занять контактную позицию перед глаголом:
В среднем имя-дополнение или обстоятельство в начале XIV в. располагалось в контактной препозиции относительно глагола-сказуемого в 25,7 % от общего числе предложений. Если учесть, что имя-подлежащее в такой же позиции встречается в это время всего в 31,2 % от общего количества предложений в тексте, то процентный состав предложений с порядком C-V (где подлежащее, если оно есть, находится за пределами этой группы) можно считать очень высоким.
Постепенно подлежащее по мере оформления его позиции становится все более обязательным и предшествует глаголу. Однако еще долгое время оно продолжает довольно часто располагаться дистантно относительно глагола-сказуемого: отдельные примеры с интеркаляциями беспредложных имен-дополнений встречаются вплоть до XVII в., не говоря уже об именных группах с предлогом.
Итак, в то время как имена существительные-дополнения, утратив падежные флексии, определяющие их функцию в предложении, оттеснялись в постпозицию к глаголу, объектные местоимения, сохранив свои формы в силу того, что они традиционно продолжали быть опорой глаголу, остались на прежнем месте – перед глаголом. Это обстоятельство способствовало, в свою очередь, грамматизации объектных местоимений, оформивших категорию дополнения во французском классическом предложении.
Таким образом, предложение (предикативное ядро) с местоименными элементами, строящееся по модели S-C-V, представляет собой результат эволюции древнего предложения, претерпевшего предельную обобщенность и лексическую десе-мантизацию своих членов до уровня грамматических категорий. В ней запечатлено и архаичное падежное различие между подлежащим и дополнениями, по которому происходило их функциональное противопоставление, развившееся со временем в категоризацию. В силу отставания от объектной, субъектная категоризация, запечатленная в структурной модели S-V-C, не повлекла за собой переоформление структуры предложения с приглагольными объектными местоимениями.
Список литературы Роль объективного логического лица в формировании категории дополнения французского классического предложения: модель S-C-V
- Алисова, Т.Б. Введение в романскую филологию/Т.Б. Алисова, Т.А. Репина, М.А. Таривердиева. -М.: Высшая школа. 1988. -344 с.
- Бородина, М.А. Категории субъекта и объекта в романских языках//Категория субъекта и объекта в языках различных типов/М.А. Бородина, Л.М. Скрелина. -Л.: Наука, 1982. -С. 4-22.
- Вандриес, Ж. Язык/Ж. Вандриес. -М.: Гос.соц.-эк. изд-во, 1937. -410 с.
- Гийом, Г. Принципы теоретической лингвистики/Г. Гийом; пер. с фр. П.А. Скрелина. -М.: Прогресс, 1992. -218 с.
- Мещанинов, И.И. Члены предложения и части речи/И.И. Мещанинов. -Л.: Наука, 1978. -387 с.
- Турбина, О.А. Психосистематика языка и речевой деятельности: курс лекций/О.А. Турбина. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. -93 с.
- Турбина, О.А. Формирование французского классического предложения: системный и структурный аспекты/О.А. Турбина. -Челябинск: Челябинский государственный университет, 1994. -259 с.
- Wartburg W. von. Evolution et structure de la langue Française/W. von Wartburg. -Berne: Franche, 1946. -321 р.