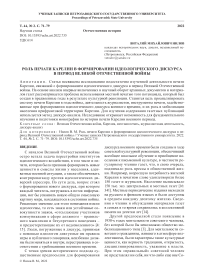Роль печати Карелии в формировании идеологического дискурса в период Великой Отечественной войны
Автор: Нилов Виталий Михайлович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 2 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию недостаточно изученной деятельности печати Карелии, связанной с формированием идеологического дискурса в период Великой Отечественной войны. На основе анализа впервые включенных в научный оборот архивных документов и материалов газет рассматривается проблема использования местной печатью того потенциала, который был создан в предвоенные годы в результате культурной революции. Ставится цель проанализировать систему печати Карелии в годы войны, деятельность журналистов, инструменты печати, задействованные при формировании идеологического дискурса военного времени, и их роль в мобилизации населения прифронтовой территории Карелии. Для изучения содержания газетных публикаций используется метод дискурс-анализа. Исследование открывает возможность для фундаментального изучения и подготовки монографии по истории печати Карелии военного периода.
Великая отечественная война, карелия, местная печать, журналистская деятельность, дискурс-анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/147236249
IDR: 147236249 | УДК: 614 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.735
Текст научной статьи Роль печати Карелии в формировании идеологического дискурса в период Великой Отечественной войны
С началом Великой Отечественной войны остро встала задача перестройки институтов идеологического воздействия, в том числе и печати, которая была призвана формировать новые ценности и смыслы жизни у населения, адекватные военной ситуации, а также обеспечивать контрпропаганду против идеологических диверсий агрессора. По сути дела, вопрос стоял о формировании нового дискурса, при котором каждый читатель, погружаясь в поток информации, мог бы усваивать новую общую смысловую картину мира, находящегося в состоянии войны. Решающее значение для этого понимания имели идеологемы, то есть знаки или устойчивые совокупности знаков, «отсылающие участников коммуникации к сфере должного – правильного мышления и безупречного поведения – и предостерегающие их от недозволенного» [4: 15]. Люди, погруженные в дискурс, принимая с помощью идеологем диктуемые им правила игры и публичного говорения, неизбежно должны были меняться и внутри, перестраиваясь в соответствии с требованиями военного времени.
С точки зрения исторического подхода существенные предпосылки для формирования
дискурса военного времени были созданы в ходе советской культурной революции, обеспечившей всеобщее школьное обучение и приобщение населения к письменной культуре, в частности регулярному чтению газет, что, в свою очередь, поднимало роль прессы в общественной жизни. Например, возросшую потребность жителей Карелии в печатном слове удовлетворяли более 150 газет и журналов. Население выписывало 150 тыс. экз. центральных и местных газет [16: 341]. Местные периодические издания выходили на русском и финском языках и были доступны в среднем каждому десятому жителю. Сведения о чтении и обсуждении материалов газет в семьях в то время сохранились в коллективной памяти на десятки лет [14].
Другой предпосылкой стало появление в 1930-х годах ментальности советского человека, без которой было бы невозможно общество мобилизационного типа [3]. Для ментальности советского гражданина, жившего в атмосфере коллективизма, были характерны такие культурные ценности, как верность традициям, открытость, дисциплинированность, уважение к власти. При этом «правильный» советский человек не представлял ни себя, ни что-либо еще вне Со- ветского государства [17]. Анализируя условия, непосредственно способствовавшие проявлению патриотического подъема в ходе жестокого военного противостояния, историки указывают также на такую характерную черту сознания россиян, как готовность терпеть лишения ради высокой цели, жертвовать личными интересами во имя сохранения и укрепления государства [7: 70].
Названные конструкты сознания во многом были обязаны своим появлением рутини-зации, то есть неизменной повторяемости постулатов, идеологии и ее переходу в убеждения и общественные практики. Однако последние при этом не утратили своих идеологических функций. Поэтому на этой основе обращения и призывы руководства страны, транслируемые прессой, а также собственные пропагандистские тексты газет органично включались в цепь культуры, то есть в широкий контекст духовных ценностей и норм прошлого, настоящего и будущего.
О глубине и устойчивости советской ментальности можно судить, например, по тому, что у большинства населения оккупированной части Карелии ее не смогли разрушить упорные попытки финской пропаганды. Финская оккупационная администрация в 1941–1944 годах через свои газеты, печатавшиеся на территории оккупированной Карелии («Vapaa Karjala» («Свободная Карелия»), «Paatenan Viesti» («Па-данские вести»), «Ita-Karjala» («Восточная Карелия»), «Северное слово» и др.), и радиопередачи «Aunuksen radio» («Радио Олонца») проводила среди карельского населения идею об «освобождении» карел от русского и «большевистского рабства», передовой культурной миссионерской роли «финского племени» относительно отсталой «рюсси», создания «Великой Финляндии» и др. [2: 317–319]. Однако уже в 1942 году финское военное руководство начинает понимать, что значительная часть местного населения остается «верна коммунистическим идеалам» [22: 111], а в 1944 году окончательно стало ясно, что большинство жителей оккупированных районов, несмотря на националистическую пропаганду, «сохранили веру в правоту советского строя» и остались верны ему [2: 333], [9: 105].
Разумеется, наличие базовой советской ментальности не снимало с печати и других идеологических институтов ответственности за ее сохранение и адаптацию к новым смыслам и ценностям военного времени у населения прифронтовых территорий. В Карелии эта задача легла на плечи журналистов местной печати, которая оформилась в республике как система лишь в на- чале 1930-х годов. К началу войны она включала три республиканских, 19 районных и шесть фабрично-заводских многотиражных газет, выходивших общим разовым тиражом почти 85 тыс. экз.1, располагала профессионально подготовленным журналистским корпусом, полиграфической базой, комплексом учреждений связи, занимавшихся распространением и экспедицией газет и журналов, а самое главное – весьма грамотной и образованной читательской аудиторией [15]. Все это позволяло сделать местную печать доступной большинству жителей Карелии за некоторым исключением районов приграничной полосы республики – Ругозерского, Ребольского и Кестеньгского [20].
Анализ накопленного довоенного потенциала печатью Карелии позволяет поставить проблемный вопрос о том, как и насколько он был реализован в условиях военного времени для формирования идеологического дискурса.
Цель исследования – выявить и проанализировать инструменты печати, задействованные государством при формировании идеологического дискурса военного времени и их роль в мобилизации населения прифронтовой территории Карелии.
Хронологические рамки исследования охватывают период боевых действий на территории Карелии с июня 1941 до июня 1944 года, что обусловлено особенностями целей и содержания пропагандистской и идеологической деятельности печати на этом этапе.
Изучение дискурсов предполагает использование особых аналитических методов, в рамках которых любое коммуникативное событие рассматривается через три измерения: текст, дискурсивную практику (способ производства и восприятия текстов) и социальную практику (способ использования текста) [6: 130]. При этом текст воспринимается как живой документ, поскольку дополняет и трансформирует то, что уже говорилось раньше.
Потребность в дискурсивном анализе печати военного периода диктуется современной логикой развития историографии истории СМИ, существенной особенностью которой является постепенный отход от описательной парадигмы в результате расширения архивной базы по теме, комплексное изучение СМИ военного времени, выявление новых аспектов истории печати, что позволяет отказаться от широко распространенного заблуждения о печати военного времени как «хорошо известном» источнике и обратить внимание на значительные неиспользованные информационные возможности периодических изданий, которые необходимо изучать [5]. Решение этих задач историками в последние годы все больше носит региональный характер, и во многих регионах уже созданы фундаментальные работы [24]. Поэтому в настоящее время насущной задачей карельских исследователей является создание монографического труда по истории печати Карелии военного периода с учетом результатов работ ведущих карельских историков [2], [11], [12].
ПЕРЕСТРОЙКА ПЕЧАТИ КАРЕЛИИ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ
Война нанесла тяжелый удар по всей системе печати Карелии. Мобилизация материальных и людских ресурсов, временная оккупация ряда районов республики привели к закрытию большинства газет и журналов, потере значительной части полиграфической базы. Только в учреждениях, занимавшихся распространением и экспедицией печати, при эвакуации из Петрозаводска было уничтожено имущества, аппаратуры, газет и журналов на 160,5 тыс. руб-лей2. Прекратили свой выход районные газеты «Большевик Калевалы», «Заонежская правда», «Коммунист», «Коммунист Прионежья», «Красная Пряжа», «Колхозник», «Новая Кондопога», «Петровский ударник», «Ребольский колхозник», многотиражные газеты «Кировская магистраль», «Кировец», «Онежец», журналы «На рубеже» и «Punalippu» («Красное знамя»). К концу 1941 года более чем вдвое сократились разовые тиражи республиканских газет («Ленинское знамя» – до 11 тыс. экз., финноязычная газета «Totuus» («Правда») – до 2 тыс. экз.)3. Тираж республиканской газеты «Молодой большевик» снизился в 10 раз (до 500 экз.)4. Двукратно и более уменьшили свои тиражи оставшиеся районные газеты: «Беломорская трибуна» (Беломорск) – до 1500 экз., «Советское Беломорье» (Кемь) – до 2500 экз., «Красный Пудож» – до 3000 экз., «Медвежьегорский большевик» – до 1000 экз. (газета выходила до конца ноября 1941 года, возобновила свой выпуск в 1943 году), «Лоух-ский большевик» – до 700 экз.5
В условиях войны местная пресса потеряла и значительное число своих читателей. Из 700 тыс. жителей Карелии около 100 тыс. ушли на фронт или в партизаны, а до полумиллиона – эвакуировались [1]. В 1942 году в не занятых противником районах проживало примерно 75 тыс. человек, или 11 % населения Карелии довоенного периода [2: 225]. На 1 января 1945 года, когда уже начали возвращаться эвакуирован- ные жители, численность населения составила всего 266 тыс. человек [25: 14].
Необходимость соблюдения военной тайны внесла коррективы в содержание публикуемых материалов. Критерии цензурных запретов стали более четкими, а их интерпретация менее расплывчатой, одновременно журналистская «самоцензура» определялась объединяющим всех стремлением к победе и требованиями военного времени, что в какой-то степени облегчало процедуру контроля и работу цензоров. Для Карелии «самоцензура» журналистов имела особое значение, поскольку оккупация части территории республики и переезд государственных учреждений в Беломорск создали определенные сложности в деятельности Главлита КФССР, которые были устранены только в 1944 году [26].
Перед журналистами в первые дни войны стояла и еще одна важная проблема. Советская пресса накануне войны часто создавала у людей ложное ощущение военной неуязвимости Советского Союза, а в случае войны – легкой победы над возможным противником. Буквально за неделю до начала войны (14 июня 1941 года) в газетах было опубликовано сообщение ТАСС, официально опровергающее намерение Германии разорвать пакт и напасть на Советский Союз. Более того, в той же статье содержалось утверждение, что слухи о подготовке СССР к войне с Германией «являются лживыми и провокационными». Поэтому с началом военных действий перед средствами массовой информации была поставлена двойная задача: во-первых, вернуть утраченное доверие населения и, во-вторых, организовывать и воодушевлять народные массы на отпор врагу [18].
Во второй половине сентября 1941 года, когда враг подходил к столице Карелии, редакция газеты «Ленинское знамя», возглавляемая Я. С. Крючковым, переехала в Медвежьегорск, где 25 сентября вышел очередной, 227-й номер. Здесь в маленьком доме с тремя небольшими комнатами разместился журналистский коллектив в составе редактора Я. С. Крючкова, заместителя редактора И. М. Моносова, ответственного секретаря Ф. А. Трофимова, заведующего отделом пропаганды Н. Ф. Шитова, заведующего промышленным отделом М. П. Покровского, журналисток Н. Кривоборской, С. Соколовой и Т. Ивановой, машинистки Л. Лучкиной, корректора С. А. Воронина и бухгалтера А. Калининой [23]. За все время переездов у редакции не было ни одного перерыва в выпусках номеров газеты. Редакции «Ленинского знамени» и «Тотуус»
делали специальные компактные выпуски газеты для жителей республики, временно попавших под иго захватчиков, которые партизаны и разведчики уносили с собой, а также разбрасывали с самолетов [8: 250–251], [19: 140].
Произошли изменения и в организации работы редакций районных газет. Например, когда в Беломорск переехали республиканские правительственные учреждения и редакции республиканских газет, районные организации, в том числе редакция газеты «Беломорская трибуна», которую возглавлял Василий Горев, были временно размещены в поселке Сосновец, а затем перебрались в Сумский Посад. Газету печатали в типографии на разъезде Тегозеро, куда в начале войны была эвакуирована Сортавальская книжная типография. Штат редакции сократился до минимума. Из воспоминаний Василия Горева:
«Через день я как редактор отправлялся пешком по железнодорожным шпалам или по разбитой автодороге, которая тянулась вдоль железнодорожной линии из Сумпосада в Тегозеро, чтобы организовать выпуск очередного номера…»6.
Сокращение тиражей газет компенсировалось в определенной мере их активным использованием в устной агитационной и пропагандистской работе, а также распространением газетных материалов через отделения связи, библиотеки и избы-читальни. Например, в Беломорском районе во второй половине 1941 года насчитывалось 13 изб-читален и 12 библиотек. В избе-читальне села Вирма по инициативе избача Фатины Васильевны Поповой проведено 82 беседы, которыми было охвачено более 1700 человек, систематически проводились читки сообщений Советского информбюро и вестей с фронтов. Большой популярностью среди населения пользовались колхозная стенгазета, бюллетени и боевые листки7.
АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА ПЕЧАТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Сложившаяся ситуация на начальном этапе войны, ее оценки и задачи, поставленные руководством страны и партийными организациями, позволили карельским журналистам уже в первые дни войны осознать острую необходимость активизации и перестройки идеологического содержания своей агитационной, пропагандистской и организаторской деятельности в связи с требованиями времени. Первая идеологическая оценка начавшейся войны, которая была размножена СМИ, прозвучала 22 июня 1941 года в речи В. М. Молотова, где было заявлено о «веролом- ном», «разбойничьем» характере нападения германских войск на СССР, при этом подчеркивалось, что «война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии». Эта первоначальная идеологическая установка в ходе военных действий претерпела впоследствии определенную трансформацию за счет смещения на задний план классово-космополитических установок и переориентации на национально-государственные, патриотические, что повлияло на массовое сознание и последующую эволюцию советского общества [21].
Правительственные идеологические установки и смыслы переводились журналистами в ясные, чеканные формулы и лозунги, которые были обращены к каждому гражданину. Например, лозунг «Наше дело правое. Победа будет за нами!» был призван убеждать народ в справедливом характере войны со стороны СССР и внушать уверенность в неизбежности победы. Такие призывы, как «Все силы народа – на разгром врага!», «Все для фронта, все для Победы!», были проникнуты смыслом мобилизации народа в советском тылу. Лозунг «Смерть немецким оккупантам!» был установкой для бойцов Красной армии. Эти лозунги и призывы привлекали внимание и вызывали незамедлительный отклик у читателей.
Редакции газет стремились, чтобы идеологемы, транслируемые прессой, распространялись как можно активнее и шире через всю систему агитационно-пропагандистской работы с населением. К примеру, редакция районной газеты «Беломорская трибуна» (г. Беломорск) в своей передовой статье от 15 августа 1941 года писала:
«Вся агитационно-пропагандистская работа сейчас должна быть подчинена интересам фронта. Священный долг каждого агитатора и пропагандиста – поднимать советских людей на борьбу с коварным врагом, разжигать в их сердцах презрение и ненависть к фашистским поработителям»8.
В основе агитационной работы, отмечалось в этой статье, должны лежать материалы Советского информбюро, сводки которого регулярно печатались в газете, а также факты конкретных практических дел в Фонд обороны.
Газета и сама выступила организатором пропагандистской и агитационной работы в районе, изучая, обобщая и распространяя опыт местных активистов. Например, сотрудник редакции Ал. Тукачев ознакомился с опытом лучших агитаторов станции Сорокская, о чем расска- зал в своей статье. В цехах этого предприятия 22 активиста ежедневно проводили агитационную работу. В роли агитаторов выступали и руководители, и рабочие, и учителя железнодорожной школы. В своих беседах они рассказывали о героизме бойцов Красной армии, самоотверженной работе советского народа, обеспечивающих победу над врагом, читали сообщения Советского информбюро, мобилизуя трудящихся на еще более ответственную и производительную работу. Как результат автор называл четкую, образцовую работу станции, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и полную готовность предприятия к зиме9.
СТРУКТУРА ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
И ЕГО ИДЕОЛОГЕМЫ
Прежде чем рассматривать структуру идеологического дискурса, необходимо напомнить, в каких отношениях находятся идеология и дискурс. Существенную роль в формировании последнего играет то, что идеология – это прежде всего система верований и убеждений. Многие идеологические конструкты сами по себе носят довольно абстрактный характер, однако эти абстракции способствуют формированию определенных когнитивных карт повседневности , оказывающих влияние на формирование социальных практик и процесс рутинизации идеологии, то есть переход в устойчивые убеждения и обыденные поступки, которые зачастую перестают восприниматься как идеологические [13].
В экстремальных условиях войны, когда времени на раздумья остро не хватало, именно поступки людей, действующих согласно своим убеждениям, приобретали характер идеологем, которые транслировались прессой как средство идеологического воздействия, в частности через показ примеров воинского и трудового героизма. Упорядочивание подобных примеров и их тиражирование формировали коллективные представления в рамках определенного дискурса. Дискурс, в свою очередь, способствовал дальнейшему распространению идеологии. Эта диалектика взаимодействия идеологии и дискурса разворачивалась в условиях определенной коммуникативной ситуации, создававшей контекст взаимодействия, в данном случае – между газетной информацией и читателями.
Идеологический дискурс, как правило, формируется на основе стратегии позитивной само-презентации и негативной презентации «чужих». Поэтому в материалах печати Карелии с точки зрения структуры идеологического дискурса присутствовала жесткая оценочная полярность ма- териалов, посвященных героическим действиям Красной армии, добровольной мобилизации граждан на фронт, сбору личных средств в Фонд обороны, патриотическому подъему тружеников тыла, трудовому героизму на рабочих местах и публикаций о преступных актах захватчиков на оккупированной территории.
Важную часть дискурса составляла информация с фронта и ее оценки со стороны пропагандистов и читателей. Существенным компонентом дискурса были мнения и суждения, которые поступали в редакции с многочисленных патриотических митингов и собраний в трудовых коллективах Карелии. Они находили отражение в опубликованных отчетах, резолюциях и заметках и оказывали влияние на риторику и смысловые формулы оценки ситуации военного времени.
В рамках одной статьи невозможно показать все аспекты идеологического дискурса карельской печати военного времени. Вот только один пример, представленный публикациями, которые посвящены добровольному уходу граждан на фронт. Не умаляя патриотического героизма добровольцев, следует еще раз напомнить, что советская пресса накануне войны часто создавала у людей ложное ощущение военной неуязвимости Советского Союза, а в случае войны – легкой победы над противником. Неудивительно, что советским гражданам было непросто осознать реальные масштабы и трагичность обрушившейся на них беды. Поэтому многие добровольцы были мотивированы прежде всего предвоенными идеологическими установками.
Уже через несколько часов после официального объявления о начале войны в редакцию республиканской газеты «Ленинское знамя» стала поступать информация о многочисленных заявлениях жителей Карелии в военкоматы с просьбами отправить их на фронт, которая обрабатывалась журналистами и немедленно предавалась гласности под рубрикой «Письма добровольцев». В этих публикациях, в частности, сообщалось:
«…в Зарецкий районный военкомат пришли три подруги – работницы Петрозаводского хлебозавода Ф. Колесникова, В. Кокарева и В. Максимова и попросили, чтобы их приняли добровольцами в ряды Красной армии. Они заявили: “Мы не можем быть безучастными к происходящим событиям, наши бойцы и командиры выполняют сейчас приказ Советского правительства, дают сокрушительный отпор гитлеровским захватчикам. Мы просим и требуем, чтобы всех нас отправили на фронт. Все свои силы, а если потребуется, то и жизнь свою отдадим нашей дорогой Родине”».
В газете также сообщалось, что с такими заявлениями в военкомат обратились работница ГЭС В. И. Илларионова, сотрудница треста «Водоканал» М. И. Балашова, работница райэнергоуправ-ления П. И. Егорова, работники 3-го стройучастка В. Плишин и В. Кораблев и другие граждане10.
Аналогичные материалы появились и на страницах районных газет. 28 июня 1941 года газета «Петровский ударник» (село Спасская Губа) опубликовала заявление бригадира тракторной бригады Линдозерской МТС комсомольца Николая Власова, добровольно идущего в Красную армию, в котором говорилось:
«Разбойничья банда распоясавшихся гитлеровских молодчиков напала на наши границы, бомбила наши города. Пролита священная кровь наших советских людей. Пусть же поймет международный бандит Гитлер, что, начав войну против отечества трудящихся всего мира, он приблизил конец своей мерзкой жизни. Я, добровольно идя в Красную Армию, заверяю партию Ленина-Сталина, что с честью выполню свой долг перед Родиной»11.
Акушерка районной больницы Клава Севери-кова в своем заявлении написала:
«Отечественная война началась. Враг нагло напал на нашу Родину. По призыву партии и правительства весь советский народ поднялся на защиту своих прав, своей свободы. Нет сомнения, что полчища кровожадных фашистских заправил будут уничтожены. Долг каждого из нас – работать как можно лучше на своем трудовом участке и дать стране как можно больше продукции. Лично я обращаюсь с просьбой в райвоенкомат зачислить меня добровольцем в ряды Действующей Армии»12.
Районная газета «Советское Беломорье» (г. Кемь) сообщала о выступлении на собрании в селе Шуерецкое воина-добровольца Селюкова, который сказал:
«Я горжусь тем, что иду служить в Красную Армию, и заверяю вас, товарищи, что, не щадя своей жизни, буду бить врага до полного его разгрома…»13.
Инициативы добровольцев получали на страницах газет активную моральную поддержку. Так, в заметке, опубликованной в республиканской газете «Ленинское знамя», рассказывалось:
«Пять своих сыновей – Егора, Ивана, Михаила, Дмитрия и Федора проводила Мария Ермолаевна Мельникова из деревни Верховье в ряды Красной армии. – “Мне уже 60 лет, я инвалидка, у меня плохо работает одна рука, но я по мере сил сама буду работать в кол-хозе”»14.
Газета «Медвежьегорский большевик» поместила на своих страницах материнский наказ Екатерины Кархунен из поселка Пиндуши, в котором говорилось:
«…Советский народ не допустит врагов хозяйничать на нашей священной земле. У одной меня 6 сыновей, 4 из них уходят в армию. Каждый здоров, весел. С гордостью гляжу я на них и даже не верится мне, что я сумела вырастить таких крепких молодцов. Хочет идти на фронт и пятый – восемнадцатилетний сын. – Идите, сынки, – скажу я им, – боритесь с врагом за нашу любимую Родину. Бейте врага до последней капли крови. Крепко помните наказ вашей матери…»15.
Не могло оставить читателей равнодушным и обращение народной сказительницы Феклы Ивановны Быковой:
«Дорогие мои братья и сестры! Не отдадим на поругание кровожадному врагу наших детей, наших сыновей и дочерей, нашу жизнь. Только при власти Советской, согретые лаской и заботой, мы поняли, что такое радостная, счастливая и свободная жизнь. Нужно еще сильнее приналечь на работу. Помогать Родине всем, чем только можно. Не бояться трудностей, терпеливо переносить их. Ведь за жизнь свою боремся, за счастье свое. Проклятые изверги отняли у меня сына, зятя, двух племянников. Любила я их крепко, души не чаяла. Большая у меня печаль, велики страдания. Но горше страдания моей Родины. И нет слез у меня, а пуще ярость к врагу в душе разгорелась. Днями уйдут в Красную Армию мои два внука. Наказ я им дала такой: – Победите свирепого врага. Рассчитайтесь сполна за все наши страдания. Убивайте падаль везде и всюду. Стреляйте умеючи – без промаха. Прогнать врага с нашей земли – этой мыслью должен жить сейчас и стар и млад. Стоишь ли ты у станка, или у руля рыбацкого баркаса, на поле ль ты, или в лесу, дрова заготовляешь – помни всегда о своем священном долге перед Родиной. Если ты работаешь нехотя, спустя рукава, если у тебя на работе много непорядков – плохой ты помощник Родине. Не будем рабами у поганой немчуры. Спасем Россию. Удесятерим свои силы»16.
Провожая добровольцев на фронт, газеты не забывали рассказывать и о том, как воюют земляки. Журналист газеты «Ленинское знамя» Т. Смолянская в одном из своих очерков рассказала о молодой партизанке Ане Карху:
«...В первом же походе отряда эта девушка, казавшаяся такой нежной и хрупкой, изумила товарищей силой воли и несгибаемым характером... В восемнадцати походах участвовала Аня Карху. Мастерски ухаживала она за ранеными, спасала из-под обстрела своих товарищей. Защищая их жизнь, смелая партизанка уничтожила 12 маннергеймовцев… Орденом Красной Звезды наградило Советское правительство отважную комсомолку. И вот совсем недавно, находясь с группой партизан в глубокой разведке, в тылу врага, Аня натолкнулась на засаду. По горсточке утомленных многодневным походом партизан ударили станковый пулемет и минометы. Аня шла первой, и первая же пулеметная очередь скосила ее»17.
В другом опубликованном газетой материале рассказывалось о подвигах красноармейца Николая Бойцова:
«Комсомольца Николая Бойцова у нас зовут “ловцом Отощайненов”. Пять пленных доставил в свою часть Николай Бойцов. Четырех фашистов он заколол ножом в их же траншеях. А сколько перебил гранатами и огнем автомата, не помнит, ибо он бьет врагов, не считая. Бойцову 22 года. В детстве он был беспризорником. Родина дала ему образование и специальность. Он неплохо трудился и хорошо воюет»18.
Многочисленные и яркие газетные публикации о добровольцах, вступающих в Красную армию, о сказанных им в напутствие и поддержку словах, рассказы об их подвигах способствовали принятию решения идти на фронт новых тысяч граждан. Только в первый месяц войны свыше 10 тыс. жителей республики подали заявления о добровольном вступлении в Красную армию [2: 209]. К началу августа 1941 года более 22 тыс. жителей Карелии записались в отряды народного ополчения [2: 211]. Всего Вооруженные силы страны получили из Карелии около 100 тыс. человек, которые сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны [10].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
История печати Карелии в годы Великой Отечественной войны – это лишь небольшая часть истории советской печати военного периода. Однако в ее деятельности отразились ключевые проблемы, которые в то время решала вся отечественная пресса. Особенностью деятельности местных газет стала эвакуации редакций на неоккупированную территорию Карелии, сохранение и мобилизация журналистского потенциала, накопленного в предвоенные годы, выпуск номеров, рассчитанных как на жителей прифронтовой территории, так и районов, захваченных врагом. Успешная перестройка работы печати позволила использовать советскую ментальность для формирования идеологического дискурса военного времени, способствовавшего укреплению патриотического духа граждан и их мобилизации на помощь фронту.
Финляндия как оккупант в 1941–1944 годах // Север. 1995. № 4–6.
Ф. А . Мой век: Воспоминания. Петрозаводск, 2000. 250 с.
Е . Л . Периодическая печать 1941–1945 гг. в отечественной историографии рубежа XX–
XXI вв. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2007. Т. 9, № 2. С. 422–428.
Список литературы Роль печати Карелии в формировании идеологического дискурса в период Великой Отечественной войны
- Вавулинская Л. И. Реэвакуация населения Карелии в военные и первые послевоенные годы (1942-1947) // Военно-исторический журнал. 2017 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://history.ric. mil.ru/Stati/item/118849/ (дата обращения 22.11.2021).
- Веригин С. Г. Карелия в годы военных испытаний: политическое и социально-экономическое положение Советской Карелии в период Второй мировой войны 1939-1945 гг. Петрозаводск, 2009. 546 с.
- Гудков Л. Д. «Советский человек» в социологии Юрия Левады // Общественные науки и современность. 2007. № 6. С. 16-30.
- Гусейнов Г. Ч. Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х. М., 2004. 272 с.
- Дергачева Л. Д. Источниковедческие проблемы советской журналистики военного времени (19411945 гг.) // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 1999. № 2. С. 3-20.
- Ирхин Ю. В. Дискурс-анализ: сущность, подходы, методология, проектирование // Социально-гуманитарные знания. 2014. № 4. С. 128-143.
- Козлов Н. Д., Довжинец М. М. Официальное и обыденное сознание в годы Великой Отечественной войны. СПб., 2008. 336 с.
- Куприянов Г. Н. За линией Карельского фронта. 3-е изд. Петрозаводск, 1982. 272 с.
- Лайне А. Национальная политика финских оккупационных властей в Карелии // Вопросы истории Европейского Севера (проблемы социальной экономики и политики: 60-е гг. XIX - XX в.): Сб. науч. ст. Петрозаводск, 1995. С. 99-106.
- Маку ров В. Г. Карелия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Информационно-аналитический обзор событий // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2009. № 3 (7) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hcpncr.com/journ709/journ709makurov.html (дата обращения 18.11.2021).
- Маку ров В. Г. Карелия в годы Второй мировой войны (1939-1945) // История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2001. С. 583-667.
- Морозов К. А. Карелия в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Петрозаводск, 1983. 237 с.
- Мусихин Г. И. Очерки теории идеологий. М., 2013. 288 с.
- Никулина Т. В., Киселёва О. А. Печать Карелии в период «Зимней войны» и проблема формирования официальной и индивидуальной памяти // Краеведческие чтения. 2007. С. 112-117.
- Нилов В. М. Агент социальной мобилизации (советская печать Карелии в 1920-1930-е годы). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2018. 219 с.
- Очерки истории Карелии. Т. 2. Петрозаводск, 1964. 615 с.
- Пищик В. И . Трансформация ментальности: системный подход. Ростов н/Д., 2007. 400 с.
- Попова В. В. Цели и способы влияния печатных средств информации на формирование патриотизма в годы Великой Отечественной войны // 65-летию Победы посвящается: Сб. науч. тр. М., 2010. C. 96-101.
- Прокконен П. С. Героизм народа в дни войны. Петрозаводск: Карелия, 1974. 260 с.
- Репухова О. Ю. СМИ как канал взаимодействия общества и государства в 1930-х годах ХХ века (на примере Карелии) // Краеведческие чтения. 2013. С. 183-194 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// library.karelia.ru/files/3952.pdf (дата обращения 18.11.2021).
- Сенявский А. С., Сенявская Е. С. Трансформация советской идеологии в период Великой Отечественной войны и ее влияние на психологию народа // Труды Института российской истории. Вып. 10. М., 2012. С. 155-176.
- Сепеля Х . Финляндия как оккупант в 1941-1944 годах // Север. 1995. № 4-6.
- Трофимов Ф. А. Мой век: Воспоминания. Петрозаводск, 2000. 250 с.
- Храмкова Е. Л. Периодическая печать 1941-1945 гг. в отечественной историографии рубежа XX-XXI вв. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2007. Т. 9, № 2. С. 422-428.
- Юсупова Л. Н. Участие женщин в разминировании Карелии. 1944-1945 гг. // Военно-исторический журнал. 2007. № 3. С. 14-19.
- Ярмолич Ф. К. Цензура на Северо-Западе СССР. 1922-1964: Дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2010. 209 с.