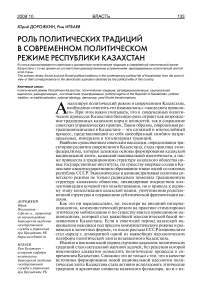Роль политических традиций в современном политическом режиме Республики Казахстан
Автор: Дорожкин Юрий Николаевич, Игбаев Рим Булатович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 10, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются советские и досоветские политические традиции в современной политической жизни Казахстана с точки зрения их соответствия демократическим устремлениям, декларируемым политической элитой этой станы.
Политический режим республики казахстан, политические традиции, ретрадиционализация, национальная идеология, демократизация, постсоветские трансформации
Короткий адрес: https://sciup.org/170164600
IDR: 170164600
Текст научной статьи Роль политических традиций в современном политическом режиме Республики Казахстан
А нализируя политический режим в современном Казахстане, необходимо отметить его взаимосвязь с «наследием прошлого». При этом важно учитывать, что в современных политических процессах Казахстана большую роль играют как возрождение традиционных казахских норм и ценностей, так и сохранение советских управленческих практик. Таким образом, современная ре-традиционализация в Казахстане – это сложный и многослойный процесс, представляющий из себя своеобразный симбиоз патриархальных, имперских и тоталитарных традиций.
ДОРОЖКИН Юрий
ИГБАЕВ
Рим Булатович – аспирант кафедры политологии
Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте РБ
Наиболее существенным советским наследием, определившим траекторию развития современного Казахстана, стала практика этнофедерализма, которая заложила основы формирования казахской национальной элиты, казахской национальной идентичности, а также привнесла в традиционную структуру казахского общества новые государственные институты, по существу впервые создав в Казахстане квазигосударственное образование в виде одной из союзных республик СССР. Экономическая и административная политика советского режима не только радикально поменяла традиционную структуру казахского общества, ликвидировав посредством коллективизации кочевой тип хозяйствования, но и привела к первому этапу консолидации казахской нации, уничтожению родоплеменной структуры и сокращению субэтнической фрагментации казахов.
Как это ни парадоксально, но, несмотря на внешний интернационализм, коммунистический режим на практике стимулировал этническую мобилизацию и по существу явился проводником национализма, который стал важнейшей идеологической базой независимого Казахстана. Если в советский период казахский национализм находился под прессом коммунистического режима и развивался в латентных формах, то после распада СССР национализм стал наряду с демократией одной из важнейших идеологических платформ политической элиты независимого Казахстана.
Именно в постсоветский период изучение казахских политических традиций стало актуальной научной задачей, без решения которой невозможно адекватно осмыслить политические процессы в современном Казахстане. Связанно это не только с тем, что в качестве источника формирования новой национальной идеологии политическая элита Казахстана стала активно использовать этнические традиции и архаичные символы казахского фольклора, но и с из- менением роли казахов как на уровне политических элит, так и в широком демографическом контексте.
После обретения Казахстаном независимости его покинула значительная часть русскоязычного населения. Так, по данным переписи, в 1999 г. казахи составляли 53,4% (в 1989 г. – 40,1%), русские – 30% (в 1989 г. – 37,4%). По данным Агентства Республики Казахстан по статистике на 1 января 2006 г. казахи составляли уже 58,6%, а русские – только 26,1% населения стра-ны1.
Отражением демографических перемен стало увеличение доли казахов во властных структурах, чему способствовала и государственная кадровая политика. Ещё в 1994 г., когда нетитульные этносы составляли 57% населения Казахстана, они были представлены только одним из семи вицепремьеров, одним из семи руководителей аппарата президента и совершенно отсутствовали среди пяти государственных со-ветников2. В целом к 1994 г. удельный вес неказахов в высших эшелонах власти сократился до 25%, в то время как ещё в 1985 г. он составлял 50%3. Таким образом, русскоязычные граждане Казахстана, которые в большой мере были носителями советской политической культуры, постепенно сдали свои позиции в современном Казахстане.
В связи с обозначенными процессами представляется важным вопрос о сущности традиционной культуры казахов и степени её совместимости с демократическими ценностями. Наиболее яркой характеристикой традиционной культуры казахов является номадизм и память о традициях кочевого образа жизни4. Властвующие элиты и идеологи Казахстана с начала 1990-х гг. с целью формирования новой национальной идеологии стали активно культивировать ряд мифов, идеализирующих кочевые традиции казахов, утверждая, что традиционная культура номадного общества не является препятствием для развития демократических ценностей, поскольку в её основе отсутствуют примеры деспотизма.
Действительно, в отличие от соседнего Узбекистана, который в построении национальной идеологии опирается на опыт предшествующих деспотических и жёстко централизованных государств, история Казахстана лишена подобных истоков государственности. Социальная структура казахов традиционно была достаточно плюралистической, так как своих ханов кочевники выбирали.
В современном Казахстане одним из государственных мифов стал миф о «степной демократии». В нём говорится о мобильности кочевого общества, где никогда не существовало замкнутых каст и положение в иерархии зависело от личных способностей человека. Утверждается, что казахская традиция предполагает сильную судебную и законодательную власть, ведь наравне с ханом в управлении кочевым государством участвовал суд биев, создавший древний свод законов. Без одобрения совета биев не могли решаться важные для государства вопросы. Совет биев отвечал и за выборы верховного хана. По мнению современных казахских идеологов, существовала в кочевом государстве и четвёртая власть – акыны (народные певцы), которые пользовались абсолютной непри-косновенностью5. Даже ханы не рисковали преследовать их. Казахская пословица гласит: «Хан вправе снять голову с плеч, но не вправе лишить слова»6.
Таким образом, представления о «степной демократии» стали частью государственной идеологии современного Казахстана, которая призвана примирить и связать воедино два, казалось бы, противоположных процесса: демократизацию и ретрадиционализацию. Современному казахскому политическому режиму крайне важно возродить казахскую идентичность, что невозможно сделать без реанимации традиционной культуры казахов. Однако для власти не менее важна и другая задача – не потерять легитимность среди достаточно значительного неказахского населения страны, а также, что не менее важно, среди политического истеблишмента демократического Запада.
Конечно, ссылки казахских идеологов на демократические основы казахской коче- вой культуры в определённой степени имеют некоторые основания. По крайней мере, в том смысле, что Н. Назарбаев и его команда были ограничены в построении откровенно деспотического режима, так как такого опыта в истории «великой степи» не было и его создание потребовало бы более сложных обоснований.
В этом плане опыт Казахстана, по-ви-димому, подтверждает тезис Р. Патнэма и других сторонников концепции «обусловленного пути» (или «тропы зависимости»), которые утверждают, что именно предыдущее развитие страны во многом обусловливает и его последующее развитие, по крайней мере, задаёт ему определённые рамки («коридор возможностей»)1.
Действительно, из пяти постсоветских стран Средней Азии именно государства с кочевой традицией (Кыргызстан и Казахстан) в своём политическом развитии демонстрируют более мягкие формы авторитаризма, допуская определённый уровень плюрализма и автономию политической оппозиции. Этому способствует также тот факт, что, в отличие от оседлых обществ Востока, кочевники отличаются более поверхностным восприятием ислама, который утвердился среди них сравнительно поздно и до сих пор не оказывает абсолютизирующего воздействия. Исламский фундаментализм не получил широкого распространения в Казахстане и не является серьёзной угрозой для казахской го-сударственности2.
В тоже время, вопреки казахским идеологам, реальная практика и плоды ретра-диционализации оказались далекими от норм демократии и развития гражданской культуры участия в современном Казахстане. Миф о «степной демократии» является лишь одной стороной медали традиции казахов, который не получил действительной реализации. На практике более широкое распространение получили совсем иные традиционные нормы, более архаичные по своей сути и очень далёкие от практики действительно демократического участия. Речь идёт о повышении в казахском обществе и политических отношениях роли принципов семейственности и клановости, которые стали основой не- демократических, неформальных отношений среди политической элиты, а также явились фундаментом для распространения коррупции.
Несмотря на процессы этнической мобилизации, которые, как уже указывалось выше, были стимулированы в советское время, процесс национальной интеграции казахов к концу ХХ в. оказался не завершённым. До сих пор среди казахов сохраняет своё влияние деление на жузы – родоплеменные объединения, связанные с историческим ареалом обитания. Истоки данного деления берут начало с эпохи создания первого Казахского ханства, которое возникло в северной части территории Моголистана (долины рек Чу и Козы-Баши) в 1465–1466 гг. Ханство делилось на три жуза, а именно – Малый, или Младший, Большой, или Старший, и Средний. Старший жуз занимал территорию от Сырдарьи до Семиречья включительно (юг современного Казахстана); Средний жуз занимал районы Центрального и часть Северо-Восточного Казахстана; Младший жуз располагался в низовьях Сырдарьи, по берегам Аральского моря, в северной части Прикаспийской низменности3. Традиционно каждый жуз имеет своего неформального лидера, занимающего высокий пост в государственных структурах.
Традиционное жузовое деление, несмотря на существенную модернизацию казахского общества в советское время, сохранило своё влияние. Более того, на современном этапе оно переживает стремительное возрождение. Использование традиционных клановых связей (принадлежности к одному из трёх жузов), усилилось ещё во времена ослабления власти Москвы, при первом секретаре компартии Казахстана Д. Кунаеве, когда во властных структурах увеличилось представительство и влияние наиболее традиционных южных казахов (Улу жуз). Этот процесс завершился во второй половине 1990-х гг. устранением из правительственных сфер представит елей северян (Орта жуз)4.
Важно отметить, что возрождение и распространение кланового сознания во многом было связано с демографическими и миграционными процессами постсоветского Казахстана. Механизмы традиционной политической культуры имеют первостепенное значение, прежде всего, для сельских жителей и иных, ранее остававшихся маргинальными групп населения. Именно эти группы мыслят по преимуществу категориями «клана», и именно эти слои населения в постсоветский период заметно увеличили свое влияние в социальной и политической жизни Казахстана. С обретением независимости они стали играть во многом ведущую роль в государстве.
Связано это с тем, что с начала 1990-х гг. из органов власти стали вытесняться не только этнические русские и другие «не-казахи», но и городские этнические казахи, не владеющие казахским языком. Дело в том, что в советский период в 1970-е гг. продвижение этнических казахов на высшие государственные посты совпало с широчайшим распространением русского языка. С этого периода стал складываться большой слой городских казахов, которые не знали или плохо знали казахский язык. Как отмечает А. Сарсембаев, «казахи стали самой советизированной и русифицированной нацией из всех советских на-ций»1.
С начала 1990-х гг. стали развиваться противоположные процессы. Одним из основных требований при приёме на работу в государственных службах стало знание казахского языка. Органы государственного управления начали заполняться казахами – выходцами из сельской местности, лучше владеющими казахским языком, чем русским, которые стали привносить архаичные формы кланового поведения в высшие эшелоны власти.
Клановые отношения получили широкое распространение в независимом Казахстане во всех социальных сферах в связи с массовой миграцией обедневшего в результате деколлективизации сельского хозяйства сельского населения в города. Например, в 1989–1999 гг. в Алма-Ату прибыли до 200 тыс. сельских мигрантов-казахов, в результате чего их удельный вес поднялся с 24 до 39%, тогда как доля русских упала до 12%2. Потоки сельских мигрантов начали «затапливать» города, и урбанизация всё чаще по своим последствиям стала походить на процесс ретрадиционализации. Так, многие горожане стали вспоминать о своей «жузовой принадлежности».
В политической сфере тенденции рет-радиционализации влияют на электоральные процессы, выражаясь в том, что избиратели традиционной культуры опасаются всего нового и голосуют только за привычных лидеров. Общепринятая норма традиционных обществ – дарообмен – порождает терпимость к принятию «подарков» и получению взяток за оказание услуги, к устройству на работу «своих» людей3.
Таким образом, процессы ретрадицио-нализации не столько стимулируют демократические начала, сколько воспроизводят практику неформальных отношений, приводят к фактической институционализации клановости и распространению коррупционных отношений.
Указанные тенденции оказывают сильнейшее влияние на характер и процесс функционирования политической системы Казахстана. Обретение независимости позволило чуть ли не формализовать скрытые в советский период традиционные механизмы рекрутирования политических элит. Как отмечает казахский исследователь Н. Амрекулов, «в условиях суверенизации республик и всегда непрозрачной приватизации государственной собственности… клан (в отличие от партий, профессиональных союзов и т.д.) вновь стал господствующей формой группирования элит»4.
О регионально-клановой структуре и логике противоборства современных политических элит Казахстана написан ряд исследований5. Однако наиболее очевидным доказательством их наличия являются признания президента страны Н. На зарбаева, к оторый откровенно сказал, что
«различные формы родового протекционизма, родовых и территориальных лобби порой проявляются во властных структурах, в финансовой и коммерческой сферах»1. При этом проблема состоит в том, что президент Казахстана в своей борьбе с жузовым регионализмом и клановостью сам действует в рамках традиционной логики, создав в противовес трём жузовым объединениям свой собственный семейный клан, возвышение которого пока «замораживает» открытые конфликты между политическими элитами, разделёнными клановыми противоречиями. Несмотря на заявления о том, что он «категорически не приемлет политическую идеологию традиционного типа, которая основана на оживлении архаических форм общественного устройства, родоплеменной психологии»2, по мнению многих исследователей, Н. Назарбаев сам является носителем родоплеменного сознания.
Особенно ярко это проявляется в виде роста во властных структурах представителей Старшего жуза, выходцем из которого является президент страны. Как показали социологические исследования Ассоциации социологов и политологов Казахстана, в составах пяти правительств, сформированных главой государства за время независимости, преобладали уроженцы юга и юго-востока Казахстана3.
Можно заключить, что процессы ре-традиционализации на современном этапе играют важную роль в функционировании политической системы Казахстана. Ретрадиционализация имеет два основных компонента: традиционные нормы казахской кочевой культуры и советские традиции государственного патриотизма, синтез которых в постсоветский период привёл к своеобразному формированию национальной идеологии Казахстана и заложил параметры развития казахского национализма. Вместе с тем ретрадициона-лизация привела к возрождению архаичных форм казахской культуры, реально проявляющихся сегодня в виде клановости и регионально-жузовой фрагментации политических элит. Несмотря на формирование идеологами независимой казахской государственности мифа о «степной демократии», на практике возрождение традиций и развитие тенденции ретрадиционализа-ции в целом мало способствовали развитию демократических отношений в обществе и модернизации казахской политической системы. Однако на современном этапе ретрадицонализация начинает входить в противоречие не только с нормами демократии, но и с задачами консолидации казахской нации. Дальнейшая институционализация кланового деления казахов может затормозить формирование их общегражданской, национальной идентичности.