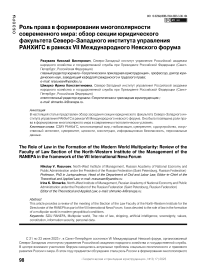Роль права в формировании многополярности современного мира: обзор секции юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХИГС в рамках VII Международного Невского форума
Автор: Разуваев Н.В., Шмарко И.К.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Обзоры
Статья в выпуске: 3 (17), 2023 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье представлен обзор заседания секции юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС в рамках VII Международного невского форума. Она была посвящена роли права в формировании многополярного мира в современных геополитических условиях.
Сзиу ранхигс, многополярный мир, глобализация, суверенитет, судоустройство, искусственный интеллект, ценности, конституция, информационная безопасность, персональные данные
Короткий адрес: https://sciup.org/14128503
IDR: 14128503 | DOI: 10.22394/2686-7834-2023-3-98-104
Текст обзорной статьи Роль права в формировании многополярности современного мира: обзор секции юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХИГС в рамках VII Международного Невского форума
С 21 по 23 июня 2023 г. в Санкт-Петербурге состоялся VII Международный Невский форум, организованный Северо-Западным институтом управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В центре внимания участников Форума находились актуальные проблемы социально-политического и правового развития России и мира. В этом году предметом обсуждения стала роль России в формировании многополярного мира. Как всегда, в рассмотрении данной проблематики принимали участие ведущие отечественные и зарубежные ученые, а также государственные служащие и представители бизнес-сообщества из целого ряда стран.
ОБЗОРЫ
Среди мероприятий Невского форума особого внимания заслуживает секция юридического факультета, посвященная роли права в формировании многополярности современного мира. В рамках секции рассматривался широкий круг проблем, в том числе:
-
• создание многополярного мира как цель эволюции международного правопорядка;
-
• правовые традиции: опыт прошлого и современность;
-
• национальные правовые системы: условия сосуществования и взаимодействия;
-
• угрозы и вызовы международному правопорядку;
-
• правовое сотрудничество в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина;
-
• противодействие угрозам экологической безопасности (опыт России и Китая).
Участники обсуждения пришли к единодушному мнению, что многополярность — это уже свершившийся факт в организации международных отношений, но важно в этом процессе не отказываться от обмена опытом, изучения лучших практик других государств, делиться собственными достижениями, сохраняя и учитывая национальные особенности каждого государства. Опытом имплементации норм международного права в национальное законодательство с сохранением китайской специфики делились участники конференции из Китайской Народной Республики.
С основным докладом на секции выступил судья Конституционного Суда Российской Федерации Сергей Дмитриевич Князев 1, поделившийся своим видением роли Конституции Российской Федерации в становлении многополярного мира. Он отметил, что решения Конституционного Суда в современном российском правопорядке приобретают доктринальный, ориентирующий всю правовую систему характер, это их роль подкрепляется решениями Верховного Суда Российской Федерации и других судов. Но Конституционный Суд Российской Федерации занимает в этом вопросе особое место, так как он опосредованно вынужден давать оценку и решениям иных судов. Поэтому сегодня нельзя говорить о воздействии права, российской правовой системе, о роли права в формировании многополярного мира в отрыве от Конституции и позиции Конституционного Суда.
Российское право не исчерпывается положениями законов. Даже при буквальном прочтении ч. 4 ст. 15 Конституции с этой позиции мы не можем утверждать, что она предусматривает безусловный приоритет международного права над всем российским правом, включая саму Конституцию. При этом Конституция — живой документ, и несмотря на то, что реформа 2020 г. напрямую не затронула положений первых двух глав, очевидно, что внесенные изменения будут влиять на применение их положений. В качестве примера можно вспомнить дело по вопросу оплаты труда в ночное время, которое рассматривал Конституционный Суд Российской Федерации. Заявитель обратился с просьбой о проверке на соответствие Конституции норм Трудового кодекса РФ об оплате труда в ночное время, потому что фактически размер оплаты его труда в ночное время оказывался меньше, чем в дневное.
При оценке конституционности соответствующей нормы Конституционный Суд рассматривал не только ст. 37 Конституции, но и ст. 19, 75, 75.1. В перечисленных статьях как раз и появились новые положения об уважении человека труда, сбалансированности прав и обязанностей и др. В частности, невозможно было обойти вниманием норму о сбалансированности прав и обязанностей, которые с позиций сегодняшнего дня налагают на правоприменительную практику новые требования. Важно обратить внимание на то, что внесенные изменения, наполнив конституционный текст совершенно новыми нормами, неизвестными ранее, о государствообразующем народе, о вере в Бога, единстве публичной власти и т. д., серьезно влияют на наше восприятие российского конституционализма, его развитие в современных условиях. Это потребует внесения существенных коррективов не только в научное осмысление, но и в организацию учебного процесса, в преподавание конституционного права.
Рассматриваемые положения требуют серьезного осмысления, и нужны усилия для этого со стороны не только Конституционного Суда , но и законодательной и исполнительной власти. Именно Конституционный Суд обеспечивает живой характер российской Конституции. Например, мы же видим, что федерализм, закрепленный в тексте Конституции в 1993 г., на практике претерпел существенные изменения, хотя текст статей Основного закона в этой части не изменился. То же мы видим в отношении избирательного законодательства, органов местного самоуправления. С этой точки зрения есть смысл подумать о том, что Конституция сохраняет широкие возможности для разностороннего решения любых вопросов, и для этого не требуется принимать новую Конституцию. При этом Конституционный Суд не отрицает право Страсбургского суда интерпретировать положения Конвенции о правах человека, несмотря на то, что текст положений не изменяется, но против того, чтобы под видом интерпретации устанавливались бы новые правила, которые не имеют под собой основания в самой Конвенции.
Также и в отношении Конституции — пока она есть, мы обязаны ей следовать, развивая ее толкованием, но не подменяя ее текста новыми нормами. Рассматривая заявления о проверке конституционности той или иной нормы, Конституционный Суд не решает вопрос, является ли оспариваемая норма идеальной или нет, а оценивает ее только на предмет соответствия Конституции, но это не значит, что норма не может быть сформулирована иначе.
ОБЗОРЫ
Определять конкретное содержание нормы — удел законодателя. При этом решения КС РФ нужно воспринимать не буквально, а с методологической, доктринальной точки зрения. Их можно и нужно применять по аналогии.
Чжан Чжэньюй 2 поднял важный вопрос влияния общемировой цели по снижению воздействия углеродного следа на формирование многополярности человеческой цивилизации. Как известно, термином «углеродный след» ( carbon footprint ) принято обозначать совокупность выбросов в атмосферу всех парниковых газов, прежде всего CO2, производимых в процессе жизнедеятельности людей. По мнению г-на Чжана решение этого вопроса требует как общемировых усилий, так и усилий каждой страны в отдельности. В Китае сейчас уделяется огромное внимание этой проблеме в целях достижения углеродной нейтральности. Для этого, в частности, нужно совершенствовать правовое регулирование в этой сфере, что требует координации международных правил и национальных норм.
Китай присоединился к рамочной конвенции ООН об изменении климата, к Киотскому протоколу, Климатической конвенции Глазго. Внутреннее законодательство в этой области включает несколько законодательных актов, которые, к сожалению, не сопрягаются между собой. Это приводит к недостатку координированности правоприменения и надзора за соблюдением исполнения требований законов и снижением выбросов. Отсутствие стройной структуры внутреннего нормативного регулирования приводит к затруднениям при адаптации национального регулирования к международным требованиям. Требуется принять единый общий закон, регулирующий отношения, связанные с достижением углеродной нейтральности, четко определить права и обязанности всех участников этого процесса.
Сергей Николаевич Бабурин 3 рассмотрел проблему влияния права в многополярном мире с позиций философии и этики. Президент Российской Федерации еще в 2021 г. констатировал существование цивилизационного мировоззренческого кризиса, выход из которого может быть только на морально-этической основе. Фундаментом изменений морального климата внутри страны стала конституционная реформа 2020 г., ставшая ответом на вызовы, грозящие уникальной российской цивилизации и цивилизационной идентичности многонационального народа России. Речь идет о том, что в конце XX в. процессы глобализации переросли в принудительную унификацию человечества по североамериканским стандартам, что и вызвало неизбежный кризис. Именно столкновение разных мировоззрений и духовно-нравственных ценностей сегодня стало причиной конфликта мировых сверхдержав.
Когда мы говорим о роли права в формировании многополярного мира, надо говорить не об универсализме, а взаимодополняемости. Сейчас нужно пересмотреть принципы международных отношений, а для начала разобраться с самими собой. Конституционная реформа открыла возможность перемен, но не осуществила их до конца. У нас по-прежнему в основе лежат парадигмы либерального мира, в Конституции присутствует единственная высшая ценность — человек, его права и свободы, хотя есть ценности не ниже: святыни, вера, отечество, нравственность, и они также должны быть закреплены в Конституции. Конституционная реформа началась в 2020 г., но завершиться она может только с принятием нового Основного закона. До тех пор пока существуют нормы неизменяемых глав, мы можем сколько угодно говорить о смещении акцентов в результате реформы, но без возможности изменить ее суть. Нам неизбежно нужна новая Конституция. Многополярный мир — единственное, что может спасти человечество от уничтожения.
Г-жа Сюй Юйлу 4 рассказала о том, как Китай проводит политику институциональной открытости при сохранении национальной специфики. Открытость — это восприимчивость внешнему миру путем сопоставления внутреннего регулирования и международных норм, изучение чужого прогрессивного опыта. С интернациональных позиций, системная открытость — важный мост для усиления положительного эффекта от внутреннего регулирования. С точки зрения внутреннего развития, системная открытость должна быть органически интегрирована абсолютно во все отрасли. Можно заметить, что на ранних этапах становления даже самых развитых экономик мира, особенно в странах с рыночной экономикой, институциональные системы создавались на базе принципа открытости. Например, США после Второй мировой войны либерализировали финансовую систему, торговые услуги для развития международной торговли. Рядом с КНР есть интересные примеры либерализации экономики — Япония, Южная Корея.
В Европе также была проведена гармонизация правил между государствами, что привело к созданию единого европейского рынка, высокому уровню внутренней торговли в рамках ЕС. Несмотря на то, что после окончания пандемии сохраняются настроения антиглобализма, Китаю для интенсификации внешних взаимодействий необходимо разрушать институциональные барьеры, препятствующие глобализационным процессам. С точки зрения внутренней политики, существует дисбаланс между спросом и предложением на внутреннем рынке. В рамках этого процесса нельзя говорить о простом копировании чужого опыта. Нужно учитывать национальную специфику.
Владислав Владимирович Архипов5. Понимание многополярного мира связано с непосредственным представлением о самостоятельности различных цивилизаций, которые покоятся на собственных ценностях. В Санкт-Петербургской школе в рамках философии и теории права право рассматривается в рамках интегратив- ного, или интегрального, подхода. А. В. Поляков подчеркивает в своих работах, что право представляет собой единую психосоциокультурную коммуникативную систему6. Соответственно, право при таком философском подходе не может представлять собой нечто бессубъектное, то есть чистый позитивизм в таком ракурсе методологически несостоятелен.
ОБЗОРЫ
Без субъекта нет права. Современные представления о праве базируются на представлении о субъекте как наделенном свободой, ответственностью и достоинством. Если устранить из концепции субъекта свободу воли или в случае восприятия ее как фикции или презумпции, то многие представления в праве утратят свой смысл. Этими характеристиками субъект права, конечно, не исчерпывается. Стоит обратить внимание на меди-философский аспект проблемы. Когда сейчас возникает дискуссия о том, что мы понимаем под цифровым миром, то оказывается, что это мир, в котором мы реконструируем себя как субъекта, когда весь мир воспринимается через модели в машиночитаемой форме. Это ставит вопрос о том, что в этом мире является настоящим. И ответ на него принципиален для понимания субъектности как таковой. Субъект в цифровой среде представляет собой некую сущность, которая как часть себя воспринимает разного рода интерфейсы, с помощью которых взаимодействует в этом мире с другими участниками. Если мы воспринимаем право как коммуникативное явление, то с точки зрения политики массовых коммуникаций в условиях формирования многополярного мира усиливается информационное взаимодействие, достоверной коммуникации становится все меньше. Закрепляется понятие постправды и встает вопрос, как возможно существование права в принципе в этих условиях.
Некая информационная безопасность в широком гуманитарном смысле слова становится залогом существования права как такового. Эта ситуация влияет на развитие концепции традиционных духовно-нравственных ценностей, которые должны восприниматься как часть цивилизационной основы не только в аналоговой, но и в цифровой среде. В результате появляются противоречия между концепцией традиционных ценностей как неких настоящих в противовес цифровым, ненастоящим. Контекст цифровой среды обостряет этот конфликт и ставит интересные вопросы, на которые нам предстоит найти ответы.
Пань Чэньцзы 7 посвятил свое выступление важному вопросу влияния развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и их воздействия на национальную и международную безопасность. Сейчас используются и развиваются технологии ИИ на основе глубокого обучения, которые создают возможности голосовых преобразований, генерации музыки, звука, редактирования биологических особенностей изображения, цифрового моделирования и т. п. Например, первый в мире синтезированный диктор с технологией диктования на языке жестов был использован при трансляции Олимпийских игр. Границы между истиной и ложью размываются, это приводит к наступлению эпохи постправды, и, если не снять эти риски, это приведет к кризису социального доверия и нарушит порядок в обществе.
Использование этой технологии поднимает вопросы безопасности персональных данных, идеологического воздействия на людей, поскольку ИИ обрабатывает именно ту информацию, которая превалирует в Сети. Это приводит к предвзятости выводов, к которым приходит ИИ и которые в итоге транслируются. Одно из препятствий в процессе управления этой технологией состоит в том, что ее трудно вывить невооруженным глазом. Сейчас в разных странах нет единого подхода к регулированию использования ИИ и управления большими данными, что может привести к снижению трансграничной безопасности информации. ИИ требует огромной вычислительной мощности, и серверы могут находиться в разных странах, что дополнительно создает сложности в силу разницы нормативной регламентации.
Исходя из анализа права Китая, нужно отметить, что в основном сейчас предметом регулирования выступает сам контент, создаваемый при помощи технологии глубокого синтеза. Например, перед публикацией аудио- и видеоматериалов необходимо провести оценку и проставить отметки о наличии или отсутствии дипфейков. Но традиционные методы регулирования стали приводить к дезадаптации общества перед лицом технологии. Сейчас надо перейти от регулирования содержания к регулированию самого процесса разработки технологии. Некоторые нормы уже появились в китайском праве. Например, поставщики услуг глубокого синтеза должны предоставлять информацию о функциях редактирования биометрических данных, предупреждать пользователя, что данные будут использоваться, и получать согласие. Но очевидно, что в этом направлении предстоит еще много работы. Сейчас стоит вопрос нахождения баланса между техническим развитием и регулированием этого развития, и он актуален для каждого государства и международного сообщества в целом.
Татьяна Анатольевна Алексеева 8. О каких бы изменения в нашей жизни мы ни говорили в связи с правом, надо прежде всего начинать с того, что же такое право. Еще в Дигестах Юстиниана говорилось о том, что все народы человечества пользуются отчасти правом своим, а отчасти правом, которым пользуются другие народы, то
ОБЗОРЫ
есть правом народов9. В Дигестах речь шла о том, что это результат естественного разума, так как многие народы отбирают только то, что нужно в силу разумности. В условиях многополярного мира этот тезис может быть востребован и методологически интересен. Размышляя о том, зачем нам право, будет уместно вспомнить опять же римских юристов, которые рассуждали о том, что право создано для людей. И важно не забывать истоки той или ной терминологии. Например, мы часто говорим о публичности и публичных интересах. Изначально публичный — это общий. Сейчас же мы чаще это слово используем как синоним термину «государственный». И таких терминов очень много — «диктатор», «федерация», «империя», — первоначальное значение которых нужно помнить. Сегодня часто, увлекаясь политическими, идейными аспектами, мы забываем, что юридическая терминология с древности очень определенна. Для развития права важно изучать зарубежный опыт. Это расширяет кругозор и показывает нам, что мы все, занимаясь правом, во всех странах мира оказываемся весьма связанными.
Чжоу Мин 10 в своем докладе рассмотрел новый вид мошенничества, который возник в результате внедрения в обиход технологий смарт-контрактов и блокчейна. Учитывая отсутствие международных границ для использования технологии блокчейн и заключения смарт-контрактов, большую актуальность приобретает международное взаимодействие и обмен опытом в рамках уголовного права и подходов к расследованию новых видов преступлений.
При расследовании таких дел важно понять всю механику работы технологии блокчейн. Несмотря на то, что технология смарт-контрактов предоставляет анонимность всем сторонам сделки, она оставляет в Сети неизмени-мый след, подтверждающий саму схему взаимодействия. Перед следствием встают такие вопросы: кто непосредственно является мошенником, как с помощью технологий вычислить реальное лицо, совершившее преступление. Проблема анонимности в данном случае приводит к тому, что потребитель не может определить своего контрагента. Расследование киберпреступлений требует полномочий сетевого вмешательства для правоохранительных органов.
Еще один вопрос, который однозначно не решен, — это как определить стоимость финансового ущерба, чтобы отнести деяние к категории уголовно наказуемого. Трудно определить реальную стоимость смарт-контрактов. Для обеспечения возможности расследования таких преступлений требуется закрепить регламентацию процесса получения данных и организовать технические возможности для этого, например, платформы для депонирования данных о смарт-контрактах. Требуется разработать стандарты оценки активов виртуальной валюты, особенно незаконно полученной от других лиц путем мошенничества. Также нужны технические инструменты для проведения конфискации полученной мошенническим путем криптовалюты. Сегодня криптомошенничество является в Китае большой проблемой, и требуется создать единые общие правила взаимодействия для эффективного противодействия мошенникам на международном уровне.
Всеволод Федорович Беликов 11 в своем докладе отметил, что восприятие права во многом зависит от местного сообщества и публичной власти. Примат закона в Европе в последние годы размывался принципом толерантности. Если говорить о Китае как партнере в многополярности, то его устойчивость во многом зиждется на том, что в рамках международной интеграции эта страна сохраняет приверженность традиционным ценностям, основанным на даосизме, буддизме, синтаизме и других религиях и исторически сложившихся философских воззрениях Китая. Многополярный мир будет устойчивым, так как это обеспечивает соблюдение национальных интересов.
В развитие темы необходимости равноценного международного сотрудничества г-жа Лей Мяомяо 12 обратилась к рассмотрению вопроса применения принципа пропорциональности в защите и конфиденциальности персональных данных. Очевидно, что сейчас в эпоху больших данных перед правом стоит вопрос нахождения баланса между фактическим и необходимым объемом собираемых персональных данных. Право на неприкосновенность частной жизни имело юридическое значение задолго до введения норм о защите персональных данных. Оно упоминается в конституционных хартиях всего мира и в международных конвенциях, получает развитие во внутренних нормативных актах государств.
Принцип пропорциональности, который должен быть положен в основу регулирования законодательства о защите персональных данных, — это процедурный принцип, определяющий соотношение между властью и частными субъектами. Благодаря его применению мы верифицируем тот факт, что государственная власть при реализации полномочий не выходит за пределы границ по сохранению конфиденциальности данных. Применения принципов соразмерности и необходимости также выступают критериями для определения, является ли действие по сбору данных минимально необходимым.
Еще один принцип, которым необходимо руководствоваться в работе с персональными данными, — принцип равновесия, принцип узкой пропорциональности между целями и средствами. Цель — общественный интерес, который должен быть достигнут правительством при сборе персональных данных. Но нужно превратить абстрактные принципы защиты в действующие нормы и найти в результате оптимальный баланс в соотношении защиты персональных данных граждан и публичных интересов.
ОБЗОРЫ
Игорь Вячеславович Левакин 13 посвятил свой доклад проблеме многополярности и конституционного регулирования экономического суверенитета в правовых системах современности. Многополярность предполагает наличие в мире нескольких полюсов силы, которыми являются наиболее могущественные державы, не превосходящих друг друга и не распространяющих свое влияние друг на друга. Термин «многополярность» означает выход за рамки бинарной логики, построенной на принципе, что не есть истина — есть ложь. Что не устраивает в бинарных принципах логики? Почему надо отказываться от этой формальной логики? Ответ можно найти в следующем. Современный научно-технический прогресс основан на идее теории относительности Эйнштейна. Мы не знаем, что для нашего контрагента является добром и злом, отсюда проистекает стремление к многополярности, плюрализму, в рамках различных правовых систем в том числе.
Фундамент категории экономического суверенитета в международном праве был заложен в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 21 декабря 1965 г., согласно которой каждое государство вправе самостоятельно определять свою экономическую систему без вмешательства. В конституционных актах некоторых государств термин «экономический суверенитет» закреплен напрямую — например, в Эквадоре. Англо-американские конституции, как правило, не используют его напрямую, но защищают традиционными конституционными средствами. Современные конституции романо-германской правовой семьи более подробно описывают экономические характеристики современных государств через разграничение полномочий между федерацией и ее субъектами.
Конституции идеократий уделяют повышенное внимание экономической сфере, защите суверенной модели хозяйствования (например, ст. 15 Конституции КНР). Наиболее активными сторонниками закрепления суверенных прав над природными ресурсами выступают развивающиеся страны, например Восточный Тимор. Наша правовая система началась тоже с указания необходимости защиты экономической основы суверенитета, хотя в современной Конституции РФ такого термина нет, он упоминается в других актах, например в Законе «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»14, Указе «О стратегии экономической безопасности...»15 и др. Глава ООН не так давно говорил, что нужно избавиться от ложного представления равной значимости между правами человека и национальным суверенитетом. Аристотель говорил, что более слабые всегда стремятся к равенству и справедливости.
Наталья Владимировна Малиновская 16 говорила о месте и роли правовых традиций России и Китая. В формировании многополярного мира ведущая роль может быть предоставлена России и Китаю. Это обусловлено тем, что правовые системы этих стран обладают большой спецификой и показывают, как может развиваться право, какие могут быть проблемы правового регулирования и их решения. У России и Китая много точек соприкосновения. В китайской иероглифике существует глубокий символизм; трансформация содержания иероглифов от более древних к менее древним показывает, что иероглиф «ФА» не всегда нужно трактовать как насилие. Он скорее обозначает связь миров и переход в иной мир, потом его значение начинает символизировать границы и пределы иного мира, а указание на единорога, который связан с понятием справедливости, отсылает к мудрому правителю.
Точки соприкосновения между Россией и Китаем основаны на глубокой духовности, которая в России идет от византийской философско-религиозной традиции, в Китае — от даосизма и учения Конфуция. Такое взаимопонимание способствует регулированию социальных отношений и во внеправовом контексте. Можно выделить глубокую идею гармонии в китайском правопорядке, она начинается от Лао-цзы и Конфуция, а впоследствии включена в идеологию коммунистической партии, когда в 2004 г. была провозглашена цель построения гармоничного общества на основе одновременно принципов искренности и дружелюбия, демократии и верховенства закона. В идее установления общественной гармонии хочется обратить внимание на принцип Гуанси, который для нас не совсем понятен.
Этот принцип можно рассматривать как способ поддерживать хорошие добрые связи, основанные как на первичных узах, таких как кровное родство, родина, этническая принадлежность, так и на приобретенных — дружба, рабочие контакты. Он позволяет выстраивать партнерские и деловые отношения на базе доверия, готовности соединения ресурсов и получения общих выгод. Когда отношения развиваются не совсем по плану, не по договору, то китайская сторона обычно ожидает понимания от своего партнера, не обращения в суд и предъявления претензий, а понимания и ожидания, когда возможность исполнения возникнет. Данный принцип можно оценивать по-разному, но в нем есть положительный компонент, который способствует достижению гармонии и стабильности общественных отношений, на которые в целом настроен Китай.
ОБЗОРЫ
Никита Сергеевич Малютин 17 отметил, что формирование многополярного мира с правовой точки зрения невозможно без создания собственного национального правового пространства. А оно в свою очередь невозможно без качественной судебной практики. Должен ли быть переход к многополярному миру радикальным? Кажется, что нужен баланс, нельзя отвергать универсальные подходы или условно универсальные, уже разработанные в других государствах или на международном уровне, нельзя превратиться в исключительно замкнутую систему, которая не будет вообще ориентироваться на достижения мировой цивилизации. Как раз судебная система, обладая гибкостью, позволяет учитывать те достижения в праве, которые вырабатывает международное сообщество, но и выступать якорем национальных подходов.
При этом у нас есть много примеров, когда российская судебная практика может демонстрировать хорошие образцы, например цифровизация отправления правосудия. Лучшие достижения в этой сфере как раз показывают Россия и Китай. Есть и другие направления, которые могут представлять собой ценность для трансляции в качестве позитивного опыта. Например, развитие защиты социально-экономических прав и актуализация их содержания. Сейчас только ЮАР активно в рамках конституционного правосудия ведет разработку этого блока прав, Конституционный Суд Российской Федерации тоже это делает, но резерв для развития этого направления и нетиповых подходов здесь есть. Еще одно направление, перспективное для совершенствования, — аналитика деятельности суда.
У нас есть аналитические подразделения на уровне высших судов, но на уровне низших судов комплексная аналитика не осуществляется, а статистические данные не собираются. Для того чтобы выступать флагманом успешных практик в сфере правосудия, нужно проводить комплексный анализ деятельности судов. Это будет способствовать созданию комплексной стратегии развития правосудия, которая сейчас не создана. Изменение процессуальных кодексов осуществляется пока само по себе, вопросы судоустройства вне связи с этими изменениями. Выработка единой стратегии даст позитивные толчки для развития судебной системы как таковой. Наконец, результирующим итогом этой деятельности будет выработка и систематизация судебных доктрин, и здесь есть возможности для роста. Вся эта работа создаст условия для развития судопроизводства и формирования устойчивого национального правопорядка в рамках многополярного мира.
Работа секции завершилась выступлением Анны Ивановны Сурдиной 18, которая обратила внимание на важность трансформации международного права в текущих условиях и необходимость посредством национальных институтов и правовых инструментов усилить защиту прав и интересов детей, права которых зачастую нарушаются при возникновении конфликта в браках, заключаемых гражданами разных государств. В частности, она обратила внимание, что в российском праве не закреплена исключительная подсудность российских судов по делам, касающимся прав несовершеннолетних граждан России, что приводит к конфликтным ситуациям. Еще одной мерой для защиты интересов несовершеннолетних российских граждан за границей могло бы стать создание бюро бесплатной юридической помощи при российских посольствах и консульствах.