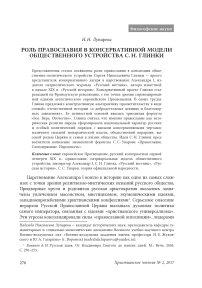Роль православия в консервативной модели общественного устройства С. Н. Глинки
Автор: Лупарева Надежда Николаевна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 2 (73), 2017 года.
Бесплатный доступ
Представленная статья посвящена роли православия в концепции общественно-политического устройства Сергея Николаевича Глинки - яркого представителя консервативного лагеря в царствование Александра I, издателя патриотического журнала «Русский вестник», автора известной в начале XIX в. «Русской истории». Консервативный проект Глинки стал реакцией на Французскую революцию, с его точки зрения спровоцированной идеями атеистического европейского Просвещения. В своих трудах Глинка предложил конструктивную альтернативу просветительству в виде «новой» отечественной истории «о добродетельных деяниях и благотворных заведениях». Ее ценностной основой явилась триединая формула «Бог. Вера. Отечество». Глинка считал, что именно православие как историческая религия народа сформировала национальный характер русских и особый политический порядок с явными консервативными чертами: наличием сильной монархической власти, общественной иерархии, высокой ролью Церкви и семьи в жизни общества. Идеи С. Н. Глинки предвосхитили появление знаменитой формулы С. С. Уварова «Православие. Самодержавие. Народность»
Европейское просвещение, русский консерватизм первой четверти xix в, православие, патриархальная модель общественного устройства, император александр i, с. н. глинка, "русский вестник", "рус- ская история", с. с. уваров, теория официальной народности
Короткий адрес: https://sciup.org/140190286
IDR: 140190286
Текст научной статьи Роль православия в консервативной модели общественного устройства С. Н. Глинки
которой стали архимандрит Иннокентий (Смирнов), митрополит Серафим (Глаголевский), архимандрит Фотий (Спасский), архимандрит Герасим (Князев). В 1820-е гг. этим силам удалось добиться отказа Александра I от приоритета мистико-космополитического варианта христианства в конфессиональной политике2.
Примечательно, что в рядах «православной партии» оказались и светские лица, одни из представителей оформившегося в царствование Александра I консервативного направления — писатели-«архаисты» во главе с А. С. Шишковым3. Ранний русский консерватизм сложился как ответ на беспрецедентные в своей совокупности исторические и цивилизационные вызовы России начала XIX в. — Французскую революцию, наполеоновские войны, либеральные реформы императора и его молодых друзей. «Французская революция явилась тем поворотным пунктом в русском сознании, который поставил под сомнение сами основы европейской жизни и вызвал вопросы в смысле того, чего же достигли европейские народы в своем развитии»4, а затем поставил закономерный вопрос о том, стоит ли России заимствовать «катастрофичный» европейский опыт. В данном контексте прозападные либеральные реформы нового царствования ассоциировались с прямой революционностью, казавшейся тем более опасной на фоне грядущей большой войны с Наполеоном. Осмысление этих проблем консолидировало консервативные силы русского общества, а лейтмотивом их рефлексии сделало понятие «народности» как идеи национальной самобытности5. Закономерно, что почти все ранние консерваторы в качестве одного из системообразующих концептов этого понятия называли «любовь к вере отцов»6.
Очень характеристичной в ряду вышеупомянутых мыслителей выглядит фигура Сергея Николаевича Глинки (1775(7)–1847) — человека, широко известного в первой четверти XIX в. и в разное время проявившего себя в качестве талантливого литератора, журналиста, педагога, историка, общественно-политического деятеля. Среди всех его многочисленных ипостасей особняком стоит издательская деятельность. В 1808 г. С. Н. Глинка, предчувствовавший неминуемость войны с Наполеоном, приступил к изданию журнала «Русский вестник». Его главной целью он положил «возбуждение народного духа и вызов к новой и неизбежной борьбе»7.
Замечательно, что борьба Глинки с будущим противником велась на всех направлениях, важнейшим из которых стала критика идей европейского Просвещения, с точки зрения издателя и его современников, повинных в революционных событиях во Франции. Во вступлении к первому номеру «Русского вестника» Глинка писал: «Философы осьма-гонадесять столетия никогда не заботились о доказательствах; они… все опровергали, обещивали беспредельное просвещение, неограниченную свободу… Мы видели, к чему привели… сии мечты воспаленного и тщеславного воображения! И так, замечая нынешние нравы, воспитание, обычаи, моды и проч., мы будем противополагать им не вымыслы романические, но нравы и добродетели праотцов наших»8. Фактически речь шла о критике дискредитировавшей себя просветительской рационалистической картины мира, уже захватившей умы российского дворянства.
Боясь повторения трагического французского опыта в России, Глинка решил предложить в своем журнале идейно-политическую альтернативу просветительству, имевшую яркую дидактическую направленность. На страницах «Русского вестника» он составил «новую отечественную историю: историю о добродетельных деяниях и благотворных заведени-ях»9 — как средоточие позитивных моделей поведения, которым родители должны были обучать своих детей. При этом решающую роль для автора имело следование традиции, опора на исторический опыт предков. Эта «история» никогда не была изложена в каком-то едином тексте, но может быть реконструирована на основе всего комплекса статей журнала, автором которых в подавляющем большинстве случаев являлся сам Глинка.
«Бог. Вера. Отечество» — таковы, по мнению издателя, основы праотеческой нравственности10. Наши предки никогда не сомневались в существовании Бога, в Его всемогуществе и знали, что всё в земной жизни предначертано Божественным Провидением11. Поэтому в старину люди жили, следуя Божественным законам и уставам веры. Вера — краеугольный камень праотеческой нравственности. На протяжении многих веков она поддерживала гармоничное развитие Отечества. Вера, «учиняющая всех чадами Отца небесного»12, во-первых, уравнивала всех людей перед Богом, во-вторых, превращала русское общество в братский союз. Поэтому «старинных русских» никогда не возмущало существование социального неравенства, ибо они осознавали свою причастность к высшему «християнскому равенству», т. е. все они были равны перед Богом. Существование сословной системы в российском государстве виделось им явлением таким же нормальным и необходимым, как различное положение членов в семье. Они осознавали, что «малое семейственное владычество есть образец всех других владычеств. В Державе обширной и благоустроенной все то же, что и в тесном кругу семейства. Владыка есть отец-наставник, судия и распорядитель; подданные суть чада»13. Эту иерархию они воспринимали лишь как частное проявление природного неравенства, установленного на земле Богом. Поэтому «всякое старшинство было для них священно»14. Наши предки, утверждает Глинка, осознавали, что отсутствие общественного начальства и повиновения ему угрожает стабильности и безопасности государства. Монархическое государство они считали единственно возможным и легитимным, а потому «лучше желали умереть, нежели жить самоуправно и без главы законной»15. В свою очередь русские государи «могущества своего не отделяли от щастия и великости своего народа», равно заботились обо всех сословиях, «старались о распространении правил необходимых для счастия человеческого и гражданского»16. Их отеческая опека над народом подавала пример нравственного взаимоотношения с подданными всем представителям высших сословий. Потому русские бояре и дворяне были любящими, милосердными отцами своим подчиненным17, они «учреждали общенародные празднества, угощения и сближались с простолюдимством, не умаляя ни сана, ни достоинства своего»18.
Этот порядок воспроизводился благодаря тому, что вера составляла основу праотеческого воспитания, которое базировалось на священных и духовных книгах19. Обучением своих детей занимались родители, сообщавшие своим питомцам знания, прежде всего о родной стране и свято чтимые «праотеческие предания»20. Отечественное воспитание готовило наших предков к «бытию гражданина», который жертвует своим частным благом ради общего, т. к. понимает, что первое без второго невозможно21.
Особое внимание Глинка придавал тому факту, что праотеческое воспитание было общенародным, т. е. одинаковым «для земледельцев от сохи и бояр от теремов княжеских»22. В результате в старой России не существовало того культурного разрыва, который Глинка видел в настоящем, и «голос России для всех… был равно понятен»23. Поэтому, как утверждает издатель, в старину представители верхушки общества не презирали простой народ. Руководствуясь нормами христианской морали, учившей, что «душа превыше всего»24, наши предки оценивали человека не по богатству и чинам, а по его личным достоинствам и заслугам. Потому вышестоящие по социальной лестнице не боялись признать выдающихся качеств нижестоящих. Яркой иллюстрацией Глинка считал события Смуты, когда простой купец Минин возглавил дворянские дружины25.
Не зная ни «мод», ни «роскошей», представители всех сословий вели одинаково простой образ жизни, были скромны и умеренны в своих желаниях и все необходимое находили в своем Отечестве. Так, издатель утверждает, что даже русские цари «жили почти в таких же домах, как и подданные их»26. «Старинные русские» знали цену нажитому их предками имуществу, потому не спускали его на ветер, а были очень бережливы: «Платье прадеда переходило к правнуку»27. Не расточительные на предметы материального мира, наши предки обладали исключительной духовной щедростью. К ней Глинка относил милосердие, сострадание, гостеприимство и т. д. Квинтэссенцией всех этих качеств издатель представлял благотворение, то есть всемерную помощь ближним, прежде всего слабым и неимущим.
Таким образом, вера сформировала особый тип «Русской нравствен-ности»28, проявившейся в таких чертах, как «простота нравов, уважение к старости, стыдливость, истинная чувствительность, изъявляющаяся в спомоществовании несчастным, гостеприимство, откровенность, дружелюбие»29. В общественно-политической сфере религия обусловила монархизм и патриархальность уклада русских людей. Скрепленное «единодушием и единомыслием» русское государство выстояло в самые сложные периоды своей истории: в эпоху татаро-монгольского нашествия30 и в Смутное время31 (эти, и вообще все «темные» моменты отечественной истории издатель считал следствием забвения некоторыми членами общества «уставов веры»; но они были исключением и преодолевались благодаря тому, что все остальное население оставалось верным праотеческой нравственности32).
Своего апогея религиозность как фактор национального бытия в концепции С. Н. Глинки достигает в «Русской истории», написанной на основе многочисленных исторических материалов «Русского вестника», опубликованной на год раньше «Истории государства российского» Н. М. Карамзина, в 1817 г., и в течение короткого времени выдержавшей четыре издания33. В своем историческом сочинении Глинка воспроизводит общественно-политическую модель, сконструированную на страницах своего журнала. Коренным началом русского духа, обусловившим специфику исторического развития России, Глинка считал монархизм. Уже в IX в. славяне поняли, что «народное правление, возрождающее буйство и своеволие, вредно в земле великой и обильной», и добровольно установили «наследственную власть»34. Принятие христианства закрепило установившийся политический порядок, связав народ «единодушием» и стремлением к «общей пользе». Все кризисы русской государственности были связаны с тем, что «вера», «единодушие» и «общая польза» забывались в угоду «своеволию», «разномыслию» и исканию «личной выгоды». Так было в эпоху феодальной раздробленности и последовавшего за ней монголо-татарского ига35, правления Ивана IV36, в период Смуты37, в эпоху дворцовых пере-воротов38. Но всякий раз политическое чутье русского народа способствовало восстановлению национальной политической системы. В этом смысле апофеозом русской истории для Глинки было начало XVII столетия, когда «самодержавие утвердилось в России верою и единодушным избранием на престол Царя Михаила Феодоровича»39. Причем, с точки зрения Глинки, избрание нового царя было прямым проявлением Божественной воли: «Разврат повсюду свирепствовал… К умилостивлению судеб небесных, учрежден был трехдневный пост. Смирение и кротость успокоили волнение душ и умов. Жители различных городов и всякого звания, собираясь в престольный град, начали помышлять о избрании на престол Михаила Федоровича Романова»40. Изъявляя свою волю, представители всех сословий от разных русских земель утверждали, что «Бог вразумил» их принять такое решение41.
Таким образом, национальная религия русского народа играла решающую роль в модели общественного устройства, отображенной С. Н. Глинкой в двух важнейших его консервативных проектах — «Русском вестнике» и «Русской истории». Православие способствовало становлению сильной монархической власти в России, складыванию строго иерархической структуры общества, связи в котором были одухотворены христианским милосердием, что смягчало жесткость иерархии, оформлению значимой общественной роли Церкви и семьи. Между тем, очевиден ряд специфических особенностей в религиозных убеждениях С. Н. Глинки.
Очевидно, что и в «Вестнике», и в «Истории» автор ведет речь о православии как исторической и национальной религии русского народа. При этом сам термин «православие» встречается крайне редко. В абсолютном большинстве случаев Глинка использует довольно абстрактный термин «вера», и это очень характеристичный штрих к интеллектуальному портрету выпускника петербургского Сухопутного шляхетного кадетского корпуса. Воспитательная система корпуса, который закончил С. Н. Глинка, представляла собой сложный симбиоз просветительских, масонских идей и некоторых идей европейского романтизма. В связи с этим религиозная атмосфера учебного заведения была довольно аморфной, с преобладанием идей, близких к деизму42. Таким образом, Глинка, как яркий представитель своей эпохи, не мог быть хорошо знаком с сущностью православного вероучения, анализ его сочинений показывает, что он не разбирался в догматических особенностях и отличиях православия от других христианских конфессий. Об этом свидетельствуют и факты его собственной биографии. Так, занимая во второй половине 1820-х гг. должность цензора при Московском цензурном комитете, С. Н. Глинка несколько раз пытался пропустить в печать книги масонского содержания43.
Чрезвычайно характеризует уровень понимания С. Н. Глинкой сути православного вероучения и процесса исторического развития русской церкви, ее взаимодействия с государством то, что Глинка вполне мог в один ряд ставить фигуры свв. Сергия Радонежского и св. патриарха Гермогена, с одной стороны, и Симеона Полоцкого, архиеп. Феофана Прокоповича, с другой. При этом его отнюдь не смущал тот факт, что двое последних представителей Русской Церкви и богословия внесли большой вклад в процесс секуляризации общественного сознания и подчинения Церкви государству.
Несмотря на вышеприведенные особенности взглядов С. Н. Глинки, его вклад в актуализацию православного дискурса в русской общественно-политической мысли начала XIX в. не стоит преуменьшать. Глинка одним из первых, наряду с А. С. Шишковым, Н. М. Карамзиным, Ф. В. Ростопчиным, А. С. Стурдзой, поднял тему особого места национальной религии в процессе государственного строительства и общественного развития России. После сложного для Русской Церкви XVIII столетия, после эпохи религиозного индифферентизма екатерининского царствования и во время конфессиональных метаний александровского правления это обращение было особенно важным. Идеи Глинки, наряду с воззрениями других ранних консерваторов, несомненно, внесли большой вклад в развитие консервативной мысли последующих эпох, в частности в разработку знаменитой уваровской триады «Православие. Самодержавие. Народность», ставшей официальной идеологией царствования Николая I.