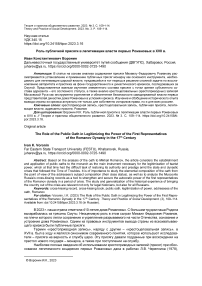Роль публичной присяги в легитимации власти первых Романовых в XVII в
Автор: Воронин Иван Константинович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа содержания присяги Михаилу Федоровичу Романову рассматриваются установление и применение публичных присяг монарху как основного инструмента, необходимого для легитимации царской власти, нуждавшейся в тот период в решении сложной задачи по восстановлению авторитета и престижа на фоне государственного и династического кризисов, последовавших за Смутой. Представляется важным изучение элементного состава присяги с точки зрения субъектного состава адресанта - его сословного статуса, а также анализ крестоцеловальных (крестоприводных) записей Московской Руси как инструмента укрепления и обеспечения безопасности самодержавной власти первых представителей династии дома Романовых в условиях кризиса. Изучение и обобщение исторического опыта вывода страны из кризиса актуальны не только для собственно историков права, но и для всех россиян.
Крестоприводная запись, крестоцеловальная запись, публичная присяга, легитимация власти, адресанты присяги, романов
Короткий адрес: https://sciup.org/149142408
IDR: 149142408 | УДК: 340.15 | DOI: 10.24158/tipor.2023.3.16
Текст научной статьи Роль публичной присяги в легитимации власти первых Романовых в XVII в
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), Хабаровск, Россия, ,
Far Eastern State Transport University (FESTU), Khabarovsk, Russia, ,
В 2023 г. наша страна отметила 410-летие дома Романовых. С большим трудом наша Родина выкарабкалась из трясины Смуты. Неоценимую роль в этом сыграл Михаил Федорович Романов, на плечи которого легли сохранение и укрепление разрываемого на части Отечества, основание и устроение дома Романовых. Одним из правовых инструментов вывода страны из всеохватывающего кризиса были публичные присяги.
Термин «крестоприводная запись», наряду с другим – «крестоцеловальная запись», в XVII в. был в ходу и являлся синонимом современного понятия, которое используют исследователи – присяга на верность и службу царю. Эту присягу давали подданные при восхождении на престол нового государя – монарха, а также при поступлении на службу.
Наиболее полные сведения об использовании крестоприводных записей (присяг) при обосновании легитимности воцарения первых Романовых дана в работах Л.В. Черепнина (1978),
Р.Г. Скрынникова (1988, 2005) и А.П. Павлова (2015, 2018). Однако их исследования не предусматривали специального изучения роли присяги в утверждении новой династии, укреплении государственности в центре и на окраинах. Этому и посвящена данная статья.
В качестве фактологической базы исследования послужили тексты крестоприводных записей (присяг), помещенные в сборниках документов, опубликованных в XVIII – начале XX в. и оцифрованные в XXI в. Наибольший интерес из них представляет «Древняя российская вивлио-фика», издаваемая великим российским просветителем Николаем Новиковым1.
А.Ю. Челнокова так видит применение крестоцелования в политической практике в средневековой Руси конца XV – конца XVII в.: «в период формирования новой политической системы московского самодержавия крестное целование – как служебная присяга – еще не обрело регулярного, юридически обоснованного характера, т. е. применялось эпизодически: либо в тех случаях, когда власть ощущала нестабильность и угрозу, когда, к примеру, при смене правителя наследник не мог твердо взять бразды правления в свои руки и нуждался в специальной поддержке правящей элиты, либо для закрепления обязательства отдельных представителей знати не оставлять службу московскому государю» (2014: 130).
Тяжелейший государственный и династический кризисы, последовавшие за Смутой, привели к разрушению авторитета власти. Перед первым правителем династии Романовых – Михаилом Федоровичем – стояла сложная задача восстановления престижа царской власти (Святуха, 2006: 198).
Начало правления Михаила Федоровича было отмечено нестабильностью как неизбежным спутником уходящего Смутного времени. Первая крестоприводная запись (присяга) подданных новому царю была направлена на утверждение легитимности династии Романовых. Несмотря на то что Михаил Федорович был избран на царство Земским собором, в понимании средневекового человека его легитимность проистекала от Бога. Поэтому не царь клялся перед народом, а народ присягал царю. Отсюда и его претензия на самодержавное правление. Одновременно присяга утверждала наследственную монархию и новую династию, в связи с чем адресовалась еще и членам его семьи. Косвенно это было свидетельством и притязаний отдельных членов династии на власть.
Неслучайно в Повести о Земском соборе 1613 г. упоминается о принесении Михаилу Федоровичу присяги при его избрании на Лобном месте2. М.В. Королева замечает, что выбор последнего для данного мероприятия определялся как функциональностью (возможностью сбора большого количества людей), так и символичностью в качестве места коммуникации правителя и народа (2020: 77).
Достичь полного «замирения» Московского государства и одновременно укрепить центральный государственный аппарат новой царской династии удалось далеко не сразу. В 1626 г. Михаил Федорович счел нужным вновь привести к присяге царский двор3. Текст крестоприводной записи (присяги) был разделен на три части. Первая произносилась всеми придворными, независимо от чина и звания. По содержанию она была почти идентична общему тексту присяги, данной подданными новоизбранному царю в 1613 г., но, безусловно, отражала ситуационные моменты. В присягу 1626 г. в качестве адресата было включено имя Великой княгини Евдокии Лукьяновны (урожденной Стрешневой) – жены Михаила Федоровича. По всем канонам традиционного общества женитьба – тот рубеж, перейдя который юноша становился самостоятельным мужчиной. Поэтому в основной части клятвы нет упоминания ни матери царя, ни его отца – патриарха Филарета, пользовавшегося большим влиянием при дворе. Хотя оба родителя были еще живы и благословили сына на брак. При этом ничего не сказано ни о королевиче Владиславе, ни о Иване Заруцком, ни о Марине Мнишек и ее сыне. Первый отказался от русского престола, других перечисленных людей не было в живых. Без упоминания конкретных лиц обязующимся запрещался переход на службу к немцам, литовцам, татарам (имеется в виду крымским) и ногайцам. Подданные обязывались служить верно не только в мирное время, но и в военное («из полков, и из посылок без Государеву указу и без отпуска не съехати, и города не здати, и в полкех воевод не покинути»).
После общей части следовала вторая часть присяги – «приписки», т. е. продолжение, которое произносили те или иные категории царских придворных. В тексте документа первой следует «приписка» для бояр, окольничих и думных людей, занимавших высшее место в придворной иерархии. Она одна из самых коротких, поскольку в ней содержится один, но важный, на наш взгляд, тезис о том, что присягающий занимает высокое положение не вследствие родовитости, а исключительно по милости царя-самодержца («а что пожаловал Государь <…> велел мне имяреку быти у себя Государя в боярах и в окольничих, и в думе…»1). Отсюда вытекала и обязанность присягавших беспрекословно следовать воле государя.
Далее следовала более подробная «припись» казначеям, учитывавшая специфику их должности. Эта категория царских придворных дополнительно обязывалась:
-
– «добра государю хотети», «не травити» его «зельем и кореньями» и другим не давать этого делать;
-
– не передавать иноземцам государственной тайны;
-
– отправлять правосудие по подведомственным делам в соответствии с законом и непредвзято;
-
– не использовать служебное положение в корыстных целях: не брать взяток, не пускать деньги из казны в оборот («казною не с кем не ссуживатися»), не казнокрадствовать.
По первому пункту стоит заметить, что постоянное упоминание в присяге о «зельях и кореньях» неслучайно. Евдокия Лукьяновна Стрешнева (1608–1645 гг.) была второй женой Михаил Федоровича. Первая его нареченная невеста Мария Ивановна Хлопова (?–1633 гг.) заболела, как только оказалось в царском дворце, ее брак с царем в итоге не состоялся. Первая жена царя – Мария Федоровна Долгорукова (1608–1625 гг.) – заболела сразу после свадьбы и через несколько месяцев умерла. Учитывая эти обстоятельства, Михаил Федорович принял ряд мер безопасности, направленных против угрозы жизни его новой избранницы, матери своих будущих 10 детей.
Аналогичными по содержанию были «приписи» к присягам, которые давали царские дьяки и дьяки казенного двора. Можно предположить, что составители текста учитывали то обстоятельство, что эти категории чиновников, с одной стороны, были лично приближены к царю и его семье (царские казначеи и дьяки), а с другой – выполняли важные функции в системе придворного управления (дьяки казенного двора).
В свою очередь, стольники в своей «приписи» к основному тексту присяги обязывались «яства не портити», «коренья и зелья» в еду «не подбрасывати» и другим не позволять это делать. Далее следовала «припись» к присяге царских стряпчих. Кроме того, в документе имеется «припись» к клятве, которую давали стольники патриарха Филарета – отца Михаила Федоровича, не отделявшего свою патриаршую власть от власти сына. Все три «приписи» – стольников царя и патриарха, а также царских стряпчих – были аналогичны по содержанию.
Заключительная краткая часть присяги предназначалась для всех приводимых к клятве придворных чинов, произносилась после целования креста и включала обещание присягающих следовать всем тем обещаниям, которые они давали. Ритуал принесения обязательств на верность царю возвышал власть до уровня божественной и был призван вызывать у участников церемонии ощущение значимости принятых на себя обязательств, а правителю гарантировать лояльность (Королева, 2019: 596).
В нашем распоряжении имеется еще одна крестоприсяжная запись, которая давалась придворными царя Михаила Федоровича. Вероятно, оба документа хранились в архиве Посольского приказа вместе. Это дало основание Н. Новикову датировать их 1626 г. Однако в качестве адресатов присяги придворных подданных, кроме Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны, фигурируют новые лица – их дети: царевичи Алексей и Иван, а также царевны – великие княжны Ирина, Анна, Татьяна. Это дает основание датировать вторую присяжную запись вместе с «при-писями» к ней между второй половиной 1636 г. и началом 1639 г.
Здесь необходимо отметить, что у супругов Романовых родилось 10 детей: Ирина (1627– 1679 гг.), Пелагея (1628–1629), Алексей (1629–1676), Анна (1630–1692), Марфа (1631–1632), Иоанн (1633 – 10 [20] января 1639), Софья (1634 – 23 июня 1636), Татьяна (5 [15] января 1636 – 1706), Евдокия (1637), Василий (март-апрель 1639 г.). Ориентиром для датировки служат дата смерти Софии (июнь 1636 г.), не упомянутая в списке, и дата смерти Иоанна (январь 1639 г.), наоборот, отмеченная в документе. Евдокия умерла в тот же день, что и родилась.
В числе адресантов в «приписях» ко второй присяжной записи сохранились: бояре, околь-ничьи и думные люди; казначеи; думные дьяки; стольники; стряпчие; дьяки; дьяки государевы и дьяки (таблица 1). Единственный адресант, исключенный из новой присяжной записи, – патриаршие стольники. К этому времени патриарха Филарета – отца Михаила Федоровича – уже не было в живых. Подмена патриаршей власти царской была временной и держалась на личной унии отца и сына Романовых.
В текстах «приписей», которые должны были произносить эти категории придворных, присягающие обращались с обещанием к Михаилу Федоровичу и исключительно к царевичам Алексею и Ивану. Это понятно – престолонаследие переходило по мужской линии.
Таблица 1 – Адресанты крестоцеловальных записей (присяг) придворных чинов царей Михаила Федоровича
|
z s 7 Ф 3 z о ч s с |
Крестоцеловальная запись (присяга) |
|
|
1626 г.1 1 |
Между 1636 и 1639 гг.2 |
|
|
Бояре, окольничьи и думные люди |
||
|
Казначеи |
||
|
Дьяки думные |
||
|
Стольники |
||
|
Стряпчие |
||
|
Дьяки |
||
|
Дьяки казенные |
||
|
Патриаршие стольники |
– |
|
|
– |
Постельничие |
|
|
– |
Ясельные и конюшенные дьяки |
|
|
– |
Жильцы |
|
|
– |
Шатерники |
|
В «приписях» к присяге придворных на верность царю Михаилу Федоровичу и его детям появились новые адресанты : постельничьи, ясельники, конюшенные дьяки, шетерники, жильцы. Постельничьи, шатерники присягали не только Михаилу Федоровичу, но и всем членам его семьи, т. е. не только его жене и его сыновьям, но и юным царевнам. Они обещали выполнять свои функции честно и «бесхитростно», в том числе специфические. Так, ясельники и конюшенные дьяки обязывались заботиться о здоровье не только государя, но и его лошадей. Они должны были предотвращать все попытки «недругов» подложить «коренья и зелья» в конскую упряжь и гриву. Упоминается и о «мнимых преступлениях» («волшебству не чинити», «порча»)3.
Таким образом, крестоприводные записи (присяги) на верность служения царю и его близким отражали стремление новой династии укрепить влияние в правящем лагере, обезопасить ее от происков тех, кто был допущен в их покои.
Отдельно можно отметить присягу казаков русскому царю как одну из форм военной присяги. В 1632 г. Михаил Федорович послал на Дон князя Ивана Дашкова с тем, чтобы он привел к присяге казаков, вышедших из повиновения московских властей4. Сама крестоприводная запись примечательна следующим: во-первых, она не связана со сменой венценосной особы на престоле; во-вторых, адресована, как и предыдущая, не всем подданным, а отдельным их категориям; в-третьих, в силу перечисленных особенностей она имеет и отличную от других структуру. Адресатом выступают не только царь Михаил Федорович, но и его малолетний сын Алексей Михайлович, а также патриарх Филарет. В качестве андресантов фигурируют, с одной стороны, конкретные лица – атаманы Богдан Конисков и Тимофей Яковлев, а с другой – все Донское войско, ведомое своими атаманами. При этом каждый казак должен был давать клятву индивидуально, так как она начиналась словами «Язъ Имярекъ». Далее следовала покаянная часть присяги. После того как присягающий целовал крест, он произносил своеобразное покаяние за то, что Донское войско без повеления государя занималось «…самовольством Турские городы имали и воевали, и Крымские улусы разоряли»5, нарушив ранее данную клятву царю.
За покаянной частью присяги следовали обязательства, которые давали присягающие. Обязательственная часть содержала следующее:
-
– «неслужити» иностранным государям и не «отъезжати» в иные государства, среди представителей которых названы поляки и литовцы («короли и королевичи»), ногайцы, крымчаки, немцы;
-
– не переходить служить никому из русских родов;
-
– не участвовать заговорах и об этом «не мыслити», а о тех, кто их готовит, сообщать царским властям;
-
– с врагом государевым «битися не щадя голов своих до смерти»6;
-
– служить государю «верой и правдой» и соблюдать дисциплину – города не сдавать, полков не покидать;
-
– действовать в строго предписанном районе, т. е. не ходить без соизволения государя с пиратскими набегами в Крым и к турецким берегам, на Волгу к Астрахани, не плавать в Каспийском море и не вторгаться во владения персидского шаха;
-
– не препятствовать продвижению российских войск и служилых людей по Волге в Астрахань, дипломатов в Персию, а по Дону – в Крым и Турцию.
Клятва включала санкционную часть , в которой указывалось, что за ее нарушение «и на нас не будет милости Божея и пречистые Богородицы и великих чудотворцев и всех святых»1. В заключение дается санкция личного характера, исходящая от Патриарха – отца Михаила Федоровича («и не будет на нас прощения и благословения Государя Святаго Патриарха Филарета Никитича Московского и всея Руси»2), аналоги которой нам неизвестны.
Практика крестоцелования к середине XVII в. отождествлялась с государственной присягой на верность московскому государю, отражающей единое представление о вере и верности государю. Нарушение присяги на верность рассматривалось не только как измена, но и как прегрешение против веры (Челнокова, 2016: 209).
Таким образом, казачество, сыгравшее большую роль в избрании на царство Михаила Федоровича, было одним из самых «беспокойных» элементов на окраинах Московского государства. Именно поэтому по истечении 19 лет восшествия на престол Михаил Федорович вновь привел его к присяге. Крестоприводная запись (присяга) казаков, которая была адресована на имя царя и его наследников, была наиболее сложным документом. В ней казаки не только обещали верно служить царю, но и покаялись за свои прегрешения, а также выразили готовность принять наказание за ослушание.
Список литературы Роль публичной присяги в легитимации власти первых Романовых в XVII в
- Королева М.В. Процедура государственной присяги в России XVII в // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2020. № 4 (82). С. 73-82. https://doi.org/10.25986/IRI.2020.82.4004.
- Королева М.В. Становление государственной присяги в России после Смутного времени // Русь, Россия. Средневековье и Новое время. 2019. № 6. С. 593-596.
- Павлов А.П. Думные и комнатные люди царя Михаила Романова: просопографическое исследование. В 2 т. СПб., 2018. Т. 1. 784 с.
- Павлов А.П. К истории утвержденной грамоты 1613 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: История. 2015. № 3. С. 12-20.
- Святуха О.П. Легитимация царской власти в русских портретах XVII в. // Ленинградский юридический журнал. 2006. № 1 (5). С. 197-204.
- Скрынников Р.Г. Михаил Романов. М., 2005. 334 с.
- Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII в. Смута. М., 1988. 286 с.
- Челнокова А.Ю. Текст и контекст крестоцеловальных записей XVII в. // Текст, контекст, интертекст: сборник научных статей по материалам Международной научной конференции / отв. ред. И.А. Бирич, В.А. Коханова, А.Ю. Челнокова. М., 2016. С. 205-210.
- Челнокова А.Ю. Развитие формуляра крестоцеловальных записей конца XV - конца XVII в. // Текст, контекст, интертекст: сб. науч. ст. по материалам междунар. науч. конф. / отв. ред. И.А. Бирич, М.Н. Николаева. Т. III, ч. 2. М., 2014. С. 125-131.
- Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства XVI-XVII вв. М., 1978. 420 с.