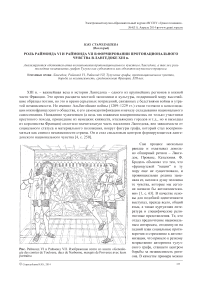Роль Раймонда VI и Раймонда VII в формировании протонационального чувства в Лангедоке XIII в
Автор: Стародубцева Надежда Юрьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Личность, общество, государство: историко-методологический аспект
Статья в выпуске: 4 (31), 2014 года.
Бесплатный доступ
Анализируются обстоятельства возникновения протонационального чувства в Лангедоке, а так же роль последних независимых графов Тулузы как субъектов и как объектов изучаемого процесса.
Лангедок, раймонд vi, раймонд vii, тулузские графы, протонациональное чувство, борьба за независимость, средневековая франция, xiii век
Короткий адрес: https://sciup.org/14822090
IDR: 14822090
Текст научной статьи Роль Раймонда VI и Раймонда VII в формировании протонационального чувства в Лангедоке XIII в
XIII в. – важнейшая веха в истории Лангедока – одного из крупнейших регионов в южной части Франции. Это время расцвета местной экономики и культуры, подарившей миру высочайшие образцы поэзии, но это и время серьезных потрясений, связанных с бедствиями войны и утратой независимости. Но именно Альбигойские войны (1209–1229 гг.) стали толчком к консолидации южнофранцузского общества, к его самоидентификации и началу складывания национального самосознания. Нападение чужеземцев (а ведь так южанами воспринимались не только участники крестового похода, пришедшие из немецких княжеств, итальянских городов и т.д., но и выходцы из королевства Франция) сплотило значительную часть населения Лангедока, вне зависимости от социального статуса и материального положения, вокруг фигуры графа, который стал восприниматься как символ независимости страны. Он и стал смысловым центром формирующегося лангедокского национального чувства [4, с. 250].
Рис. Раймонд VI и Раймонд VII. Изображение взято из книги «Genealo-gie des comtes de Toulouse, ducs de Narbonne, marquis de Provence avec leurs portraits»
Сам процесс несколько раньше и охватывал довольно обширный регион – Лангедок, Прованс, Каталония. Ф. Бродель объяснял это тем, что «французской “нации” в ту пору еще не существовало, и провинциальная родина заменяла ее, вселяя в душу человека те чувства, которые мы сегодня назвали бы автономистскими» [1, с. 63]. В качестве основы для подобной идентичности выступал, прежде всего, общий язык, а также куртуазная литература и специфические религиозные представления. Те, кто отдал предпочтение национальным интересам, отодвинули на задний план социальные противоречия и стремление к автономизации, что привело к резкому возрастанию авторитета тулузского графа, ставшего центром борьбы за независимость региона. В качестве примера можно привести символическое вручение Раймонду VI авиньонцами верховной власти над их городом, о чем мы читаем в «Песни о крестовом походе против альбигойцев»: «Жители Марселя оказали двум графам* воодушевленный прием. На четвертый день прибывает вестник, который приветствует графа и говорит ему на своем языке: “Господин граф, не задерживайтесь завтра, т.к. лучшие (жители) Авиньона ждут вас на берегу (Роны): там больше трех сотен тех, кто принесет вам оммаж”»[10, с. 99]. Аналогичным образом поступили и консулы Марселя. А ведь в это время Тулузский граф практически лишился собственного наследия. Но зато граф из рода Раймондинов единственный достоин верности, потому что он не узурпатор, а «природный сеньор». Понимание этого термина лучше всего отражено в «Генеалогии графов Тулузы»: «Принц, который родился на земле, где он правил, которую он, вследствие этого, любил и хотел здесь жить, который говорил на том же языке, что и народ, и уважал его кутюмы, который, в конце концов, помышлял лишь сохранить общественные свободы и расширить местные франшизы, вместо того, чтобы ограничить их или подавить, – это и есть природный сеньор» [8, с. 15]. Именно так и воспринимали Раймонда VI и Раймонда VII, всячески способствовавших закреплению этого образа в сознании своих подданных.
О такой же сплоченности населения и отождествлении интересов Лангедока с интересами Рай-мондинов свидетельствует решение консулов Тулузы приступить в 1218 г. к «отчуждению и продаже с торгов движимого и недвижимого имущества, захваченного у приверженцев Симона де Монфор (из числа жителей города), которые покинули город после возвращения графа [Раймонда VI], не испросив разрешения ни у него, ни у городского магистрата» [17, с. 707] для того, чтобы компенсировать часть расходов, понесенных в связи с войной. Естественно, эта мера затрагивала, прежде всего, состоятельных тулузцев, перешедших на сторону крестоносцев. Таким образом, консулы, являвшиеся выходцами из таких же обеспеченных семейств городского нобилитета, поступались своими имущественными интересами ради поддержания традиционной политической системы. Решение консулов было подкреплено дарованием жителям Тулузы от лица Раймонда VI и его сына «права репрессий против лиц романского языка, которые последовали за отрядом Амори де Монфора и крестоносцами» [3].
Таким образом, центральными фигурами, вокруг которых выстраивалась протонациональная идентичность, стали последние представители рода Раймондинов, правившие регионом. Их роль в данном процессе становится вполне очевидной, если обратиться к современному автономистскому движению, завоевывающему все большую популярность в регионе. Весьма показательны в этом плане агитационные материалы Партии окситанской нации. Партия называет главной причиной современных проблем региона тот факт, что будучи завоеванной армиями, наша нация была колонизирована, ограблена и лишена своего языка и своей судьбы, отсылая нас к последствиям поражения в Альбигойских войнах. Решение же проблем она видит в получении широкой автономии, заявляя, что, возглавив этот процесс, партия «подхватила знамя окситанских свобод, защищавшихся графами Тулузы» [15]. И эта идея не является изобретением современных политиков, она уходит корнями в период борьбы южан с крестоносцами, когда она была впервые сформулирована трубадурами.
Можно не сомневаться, что анонимный автор второй части «Песни об альбигойском крестовом походе» выражал мнение большинства своих соотечественников, называя Раймонда VI «горячо любимым графом», неизменно подчеркивая при этом его «законность» и то, насколько присутствие графа воодушевляет его подданных на борьбу. Впрочем, очевидно, что последнее действительно имело место. Ведь не случайно трубадуры, ставившие благородство во главу угла, адресовали свои сирвенты графу, рассчитывая, что его поступки будут иметь решающее значение в борьбе. Об этом нам вполне ясно дает понять Монтан Сартр: «Граф Тулузы, уже не осталось времени скрывать от вас мои мысли. Я вижу, что война, которую вы ведете против короля Франции, вспыхнула с новой силой. Если с этого момента ваша доблесть не устремится [к борьбе], это значит, что она не является ни искренней, ни пылкой, и я больше не буду считать вас порядочным человеком. Если вы не развернете свои знамена против Французов, которые опустошают ваши земли, никто больше не будет вам доверять» [5, с. 66].
Никогда еще авторитет графов тулузских не был столь высок. И даже поражение в Альбигойских войнах и заключение рокового Парижского мирного договора не подорвали доверия населения к своему господину, о чем ясно дают понять обстоятельства мятежа 1242 г. [2].
В сочинениях трубадуров Раймонд VII приобретает черты идеального сеньора. Его соответствие куртуазным ценностям служит дополнительным доказательством законности его притязаний на Лангедок. Самое главное, что Раймонд VII, помимо прочих своих достоинств, является носителем paratge. Рaratge – многозначное понятие, означающее одновременно и аристократическое происхождение, и «благородство сердца», чувство чести, добродетельность, которые должны быть присущи аристократу уже вследствие факта его сословной принадлежности, и наследие рода в совокупности с фамильными обязательствами. Именно эта категория фигурирует в качестве одного из основополагающих мотивов для отвоевания наследия Раймонда VII, т.к. предполагает «почти абсолютное право наследовать своему отцу» [13, с. 240].
Но это «сращивание» образа графа и подвластной ему Тулузы происходило не помимо его воли. В этом процессе было много нарочитого. Отождествление персоны графа из рода Раймондинов и процветания Лангедока во многом результат целенаправленной политики правителей Тулузы. Графы Тулузские не были пассивными объектами, вокруг которых шло формирование национального чувства южан – они сами приложили немало усилий для того, чтобы их Родина ассоциировалась с ними, а их права не подвергались сомнению.
Раймонд VI впервые начинает использовать в своих актах формулировки «in Dei nomine» («именем Господа») и «in Dei gratia» («Божьей милостию»), подчеркивая божественное происхождение своей власти. Он же начинает внедрять местоимения «Мы» и «Наше» применительно к своим решениям. Это свидетельствовало о попытках присвоить себе квази-королевский авторитет, что подкреплялось периодическими упоминаниями своего родства с королевской семьей: «Я, Раймонд, сын королевы Констанции*». До конца своей жизни он последовательно формировал образ принца королевской крови. С 1204 г. наблюдается даже значительное увеличение размера графской печати**: если в XII в. ее размер колебался от 60 до 84 мм, то теперь увеличился до 115 мм, превзойдя таким образом размер печати французского короля Филиппа Августа. Более того, граф Тулузы был единственным феодатари-ем, применявшим символ королевского величия, что было, по выражению крупного французского историка Л. Масэ, «совершенно беспардонно» [12, с. 298].
Его сын, Раймонд VII, отдававший в своей титулатуре первенство титулу герцога, как более престижному, использовал «in Dei gratia» во всех подписях, всегда ставя в начале «Nos» («Мы»). Согласно Фаньяну, использование местоимения «мы» должно было демонстрировать, что воля графа «объединена с волей всех подданных» [7, с. 90]. Он перенял и отцовский прием утверждения своей принадлежности к королевской семье, часто именуя себя «сыном королевы Иоанны»***, хотя с 1223 г. это происходило гораздо реже. В актах появляется формулировка «nostra propria ac spontanea voluntate» («наша собственная свободная воля»), подчеркивающая различие в положении суверена, диктующего свою волю, и его вассалов.
Практически на всех графских символах (герб, знамя, печать, монеты) фигурировал персональный идентификационный знак Раймондинов – так называемый тулузский крест, который в тот период назывался «раймондинским» – «la crotz Ramondenca» [9, с. 242]. Но в восприятии современников этот крест был не просто геральдическим знаком Раймондинов, он символизировал и саму персону графа, и Тулузу, и сопротивление южан крестоносному войску. Это особенно заметно в аллегорическом противостоянии креста / Раймонда VII и льва / Симона де Монфора: «Крест добивается успеха, и Лев теряет землю»; «Крест собирается пропитать Льва кровью» [10, с. 130–221]. В настоящее время этот крест, называемый теперь окситанским, является одним из самых узнаваемых символов региона.
Применяли Тулузские графы и идеологические рычаги, используя для этого тех самых трубадуров, творчество которых не всегда было отражением лишь их личной позиции. Для нормального существования (порой даже для банального выживания) трубадуру требовались могущественные и богатые покровители. Естественно, наилучшим способом добиться расположения такого человека было талантливое переложение его точки зрения и ее публичное распространение. Поэтому нередко за подобными сочинениями скрывается не ее взгляд самого автора, а позиция его покровителя. Собравшись в замке принца или сеньора, трубадуры сочиняли песни, повышавшие его престиж или передававшие благоприятную для него информацию. Следовательно, конечной целью сирвент было формирование общественного мнения в поддержку одной из противостоящих партий, создание рычагов давления на общество, внимавшее этим произведениям. Распространение сирвент позволяло в определенной мере манипулировать аудиторией. Трубадуры понимали, что как только они выносили свои творения на публику, они теряли свой контроль над их существованием. Общество само отбирало то, что для него актуально, передавая сирвенту из уст в уста, и отсеивало ненужное. Поэтому задачей трубадура было максимально «зацепить» будущих слушателей.
И если трубадуры XII в. подчеркивали права Раймондинов на провансальские территории, что было актуально в связи с противостоянием Барселоне, так же претендовавшей на эти земли, то со времени правления Раймонда VI происходят радикальные перемены – активно провозглашается тулузская природа его власти. А со времени нашествия крестоносцев трубадуры активно смешивали титулату-ру Раймондинов – графов Тулузы, герцогов Нарбонны и маркизов Прованса, подчеркивая их авторитет для всего Лангедока. Обращаясь к творчеству Пейре Карденаля, Л. Масэ делает важное замечание, что, когда поэт называет Раймонда VI «Coms Raimons, ducx de Narbona, Marques de Proensa» («Граф Раймонд, герцог Нарбонны, маркиз Прованса), «Proensa» отражает игру слов: это и Прованский мар-кизат, и «земля доблестных» [12, с. 302]. Это должно было подчеркивать не только политический, но и моральный авторитет графа.
Трубадуры акцентировали внимание не только на преемственности власти Раймондинов, чтобы обосновать идею о том, что лишь их правление является единственно легитимным, но и утверждали, что это сообразуется с личными пожеланиями подданных, чье мнение они выражают. Раймон де Ми-раваль с уверенностью заявляет: «Я доволен своим Одияром*, так как все люди, без сомнения, скорее признают графа Раймонда, чем какого-либо другого графа в мире» [6].
В подтверждение влияния творчества трубадуров на умонастроения соотечественников можно привести пример из протоколов тулузской инквизиции за декабрь 1274 г., где зафиксированы показания одного из горожан (Бернара Раймонда-Баранёна), процитировавшего наизусть одну из сирвент Гийома Фигейраса против Рима, сочиненную приблизительно в 1227 г. [16, с. 120]. Аналогичный случай встречается в протоколах Жака Фурнье, составленных около 1300 г., где зафиксировано свидетельство о том, что брат епископа г. Памье прилюдно напевал антиклерикальную сирвенту Пейре Кардена-ля [11, с. 103]. Это говорит не только о хорошем знакомстве жителей лангедокских городов с поэзией самых известных трубадуров, но и о значительном ее воздействии, поскольку спустя полвека после ее появления она все еще продолжала распространяться среди людей. И это несмотря на активное противодействие Церкви. Следовательно, сирвенты были превосходным средством массовой информации по меркам средних веков, а значит самым быстрым и эффективным способом политической пропаганды и формирования общественного мнения.
Таким образом, мы видим, что формирование протонационального чувства, ставшее актуальным с началом Альбигойских войн, происходило под влиянием двух процессов: с одной стороны, это целенаправленная политика последних графов Тулузы, стремившихся к расширению и упрочению власти, а с другой – это поиск жителями Лангедока смыслового центра, который бы стал олицетворением идеи независимости их Родины.
Список литературы Роль Раймонда VI и Раймонда VII в формировании протонационального чувства в Лангедоке XIII в
- Бродель Ф. Что такое Франция? М.: Издательство имени Сабашниковых, 1994. Кн. 1.
- Стародубцева Н.Ю. Последний мятеж. Восстание против французского владычества на Юге Франции и его значение//Грани познания: электрон. науч.-образоват. журн. 2012. 6 (20). URL: http://grani.vspu.ru/files/publics/1358406114.pdf (дата обращения 13.02.2014)
- Déclaration de Raymond VI reconaissant aux Toulousains la droit d’intenter l’action en tout temps contre les malfaiteurs étranger//AMT. Cartulaire du Bourg. Ms. AA1. Acte no94. Fol. 111 ro.
- Déjean J.-L. Les comtes de Toulouse (1050 -1250). Toulouse: Fayard, 2003.
- Emeric-David M.T.B. Notice pour servire a l’histoire litteraire des troubadours. Paris, 1835.
- Fagnen C. Le vocabulaire du pouvoir dans les actes de Richard Coeur de Lion, duc de Normandie (1189 -1199)//Les pouvoirs de commendement jusqu’à 1610. Acte du 105e CNSS. Paris, 1984. P. 79-93.
- Genealogie des comtes de Toulouse, ducs de Narbonne, marquis de Provence avec leurs portraits tirés d’un manuscrit roman. Toulouse: Bompard, 1864.
- La chanson de la croisade albigeoise/ed. et trad. du provencale par Eugene Martin-Chabot. T. 2. Paris: Societe d’edition “Les belles lettres”, 1957.
- La Chanson de la croisade albigeoise/ed. et trad. par E. Martin-Chabot. Paris, 1931. T. 1.
- Le Registre d’inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers, 1318-1325: manuscrit Vat. latin no 4030 de la Bibliothèque vaticane/pub. par J. Duvernoy. Paris, 2004.
- Macé L. Les comtes de Toulose et leur entourage. XIIe -XIIIe siècles. Toulouse: Privat, 2003.
- Paterson L. M. Le monde des troubadours. La societe medievale occitane de 1100 a 1300. Montpellier: Les presse du Languedoc, 1999.
- Paterson L. M. L’enfant dans la littérature occitane avant 1230//Cahiers de civilisation médiévale. n°127. Juillet-septembre 1989.
- Plaqueta PNO 2007. URL: http://www.p-n-o.org/Plaqueta_PNO_2007.pdf
- Raimon de Miraval. Er ab la forsa dels freys. URL: http://www.trobar.org/troubadours/raimon_de_miravalh/rm27.php
- Registre de l’inquisition de Toulouse (1273 -1280)/Texte ed., trad. et annote par J. Duvernoy. Ms Fonds Doat t. XXV et XXVI. Paris, 1993.
- Vic C. de, Vaissette. Histoire générale de Languedoc. Toulouse: J.-B. Paya, propriétaire-editeur, 1844. T. VIII.