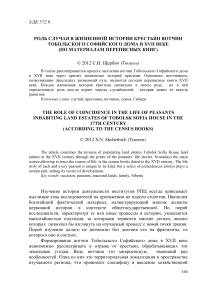Роль случая в жизненной истории крестьян вотчин Тобольского Софийского дома в XVII веке (по материалам переписных книг)
Автор: Щербич Софья Николаевна
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Социально-исторические реконструкции
Статья в выпуске: 2 (3), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс заселения вотчин Тобольского Софийского дома в XVII веке через призму жизненных историй крестьян. Основным источником, позволяющим проследить жизненный путь, являются сегодня переписные книги XVII века. Каждая жизненная история крестьян уникальна в своем роде, но в ней определенную роль всегда играет череда случайностей, которая задает ее вектор развития.
Случай, крестьяне, вотчины, семья, сибирь
Короткий адрес: https://sciup.org/14238928
IDR: 14238928 | УДК: 572.9
Текст научной статьи Роль случая в жизненной истории крестьян вотчин Тобольского Софийского дома в XVII веке (по материалам переписных книг)
Изучение истории деятельности институтов РПЦ всегда привлекает пытливые умы исследователей на протяжении не одного столетия. Накоплен богатейший фактический материал, иллюстрирующий многие аспекты церковной истории в контексте общегосударственной. Но порой исследователи, характеризуя те или иные процессы в истории, увлекаются масштабностью подходов, за которыми теряются многие детали, анализ которых позволил бы взглянуть на изучаемый процесс с новой точки зрения. Порой изучение целого не возможно без деления его на фрагменты, из которого оно и состоит.
Формирование вотчин Тобольского Софийского дома в XVII веке невозможно рассматривать в отрыве от крестьян, обрабатывающих эти земельные угодья. Ведь вотчина это микросоциум, имеющий ряд особенностей. Одна из них это территориальная локализация в пространстве изучаемого региона, что привносит специфику в введение хозяйственной жизни. А второй характерной чертой является социальная структура крестьянского мира, а также культурная и этническая ее составляющая.
Тобольский Софийский дом в XVII веке сыграл значительную роль в заселении Зауралья, имел обширное вотчинное хозяйство, состоящее из приписных деревень и монастырей. Содержание и приумножение земельных угодий требовало постоянного привлечения новой рабочей силы. Данная задача решалась митрополитами методически верно и просто. Если рассмотреть территориальную локализацию вотчинного хозяйства Софийского дома, то станет совершенно ясно, что при формировании земельных владений были учтены направления миграции населения северной и северо-восточной Руси на территорию Зауралья. Как отмечено И.Л. Маньковой «колонизационная волна продвигалась от Верхотурья на юго-восток, захватывая долины рек Тагила (1610-е гг.); Нейвы, Режа, Ницы (162030-е гг.); Пышмы и Исети (1640-60-е гг.)» [7, с.86].
Антропология движения носила как управляемый, так и стихийный характер, который определялся многими факторами. Стоит согласиться с высказыванием о том, что «колонисты движутся не по собственной воле, а по проектам элиты» [5, с.4]. Действительно в борьбе за Сибирь Русское государство планировало свои действия, в том числе и переселенческое движение. На сегодняшний день Д.Я. Резун и М.В. Шиловский выделили два основных способа заселения Сибири «по указу» и «по прибору», отмечая специфику каждого [10,с.78]. Первым актом, зафиксировавшим набор переселенцев, стал царский указ 1598 г., который закреплял условия переселения. Семья обязана была получить как «подмогу» сумму в размере 25 рублей, так, и должна быть снабжена всем необходимым инвентарем, зерновыми культурами и скотом. Данная практика в большей степени применялась к государственным крестьянам, переселяющимся в Зауралье. С определенной долей вероятности можно говорить, что заселение монастырских вотчин носило стихийный и добровольный характер, о чем свидетельствуют переписные книги населения Софийского дома в XVII в.
Ответ на вопрос, а кем были первые поселенцы вотчин, можно получить, изучив достаточно весомый корпус учетной документации. Безусловно, что основной целью создания книг являлся учет податного населения, с фиксацией видов налогов, которые обязаны были платить крестьяне. Помимо этого данный источник содержит уникальную информацию, позволяющую проследить этапы жизненного пути крестьян, бобылей, промышленных людей, заселявших вотчины Софийского дома в XVII веке. А изучение этих деталей позволяет нам воссоздать сам процесс освоения новых территорий, характеризуемый объемами и направлениями миграции, формированием постмиграционных сообществ, этнический состав поселенцев и т.д.
Жизненный путь крестьянской семьи это лишь частный фрагмент в общей истории, но не менее важный. В данном исследовании анализируются переписные книги софийских вотчин, содержащие интересные сведения о крестьянском населении. Характеризуя данные источники, стоит отметить, что представленные в них сведения отличаются по представлению и полноте информации. Объясняется это тем, что четкого формуляра учетная документация в это время еще не имела в виду складывания системы делопроизводства
В переписную книгу 1625 года подьячий Федька Иванов занес следующую информацию об архиерейских крестьянах деревни Камарицы. например: «Микифорко Семенов, родом муромец. Женат. Да сын у него пяти лет, две дочери. Двор у него изба, против избы клетишко да хлевишко. Двор забран в колье жердями. Да хлеба у него в клетишке ржи невеяной две чети да полосмины ячмени. Да у него ж сеяно в земле ржи четверть с полосминою ко 133-му году(1625) да ярового хлеба сеяно две четверти с осминою. Да переложные земли взорано на одну четверть. Скота у него одна лошадь да две коровы, да семеро телят» [2, с.68]. В деревне Комарице, таким образом, зафиксировано пять крестьянских семей. В перечислении данных о крестьянах автор отмечает их место рождения, статус, наличие детей обоего пола, состояние двора (есть ли какие-то постройки и их состояние), количество скота и зерновых запасов и те земли, которые обрабатывает. Эти описания дают нам представление об уровне достатка крестьянских семей. Кроме того, в данной книге фиксируется, как эти крестьяне оказались в этой деревне, что важно при характеристике их жизненного пути: «…В том месте на Комарице сперва купил прежней архиепископ Кипреян у пашенного крестьянина заимку, а после того к той купленной заимке на государеву порожную землю на пашню насажал архиепископ Кипрян пашенных крестьян и подмогу тем крестьянам давал на пашенный завод из софейские казны» [2, с.69].
В переписной книге 1662 года мы можем встретить интересные сведения о судьбе некоторых работных людей села Ивановского, которые оказались приписанными к нему в результате своего пленения: «Фочка калмак з детми с Лазарком да с Якункою сказался Софейского дома конех а привез де иво в Тоболске ис степи калмыцкого бою тоболский сын боярскои Богдан Аршинскои и отдал в Софеискои дом Макарю»; «Ивашко Микитин сказался родом татарин а привезли де иво в Тоболеск ис степи с калмыцкого бою из Барабы…»; «Спирка Прокопьев сказался родом татарин а привезли де иво в Тоболеск ис степи с калмыцкого бою…» [3, л.3об.-4, 7.]. Под «калмыцким боем» понимается восстание татар в г. Таре, поддерживаемое калмыками и царевичами Кучума 1628-1629 гг. Данное событие зафиксировано в отписке Тобольского воеводы князя А. Трубецкого Туринскому воеводе А. Зубову, в которой отмечается, что в результате удачного боя на о. Чан в Барабинской степи «многих побили и в языцех живых в полон многих поимали, и русской полон, что было они поймали в Тарском уезде в деревнях отбили и лошади и коровы отогнали» [9, c.418.].
Следующее описание жизненной истории Сергушки Лосева из Покровской слободы не менее занимательно, и раскрывает причины его приезда и внутренней миграции по слободам Сибири. Свой приход на территорию Зауралья из Сольвычегодского уезда Сергушка Лосев связывал со следующим обстоятельством: «В прошлом де в 150-м году как отец ево Володка в Дизигорскои волости умер и он де Сергушка с Вычегды сшел в Сибирь». Таким образом, в переписной книге 1662 г. зафиксировано, что первоначально в 1642 году Сергушка Лосев числится в гулящих людях, по прошествии какого-то времени он поселяется в государственной Невьянской слободе Верхотурского уезда, где и проживает в пашенных крестьянах семь лет. Необходимо отметить, что пришлому населению была свойственна мобильность, они могли спокойно сниматься с мест и искать лучшие для себя условия. Так произошло и с Сергушкою Лосевым, прослышав о том, что слободчику Микитке Шмоте Неводе по указу государя поручено строительство Литовской слободы в Тюменском уезде, он просит разрешение приказчика Невьянской слободы Панкратия Перхурова на передачу своей пашни и, получив, направляется в новую слободу. В Литовской слободе он практически не задерживается по причине того, что «Литовские де слободы слободчик Микитко Шмотя Невода умер, а он де Сергушка Литовскую слободу в пашню не стал, а пришел де в архиепископлю в Покровскую слободу и стал в пашню в прошлом в 157-м году» [3, л.83]. Таким образом, он в 1649 году закрепляется в вотчине Тобольского Софийского дома и в переписи 1662 года записан уже с сыном Оскою и внуками Мартемьянком. Якунуою и Мишкою.
Приведенная история являлась типичной для многих крестьянских семей. Анализируя причины выхода с обжитых мест, стоит говорить о роли случая в определении дальнейшего жизненного пути. Нередко одной из причин являлась потеря кормильца по причине смерти или гибели, которая оставляла без средств к существованию, и заставляла перемещаться в пространстве страны в поисках лучших условий жизни. Сибирь в этой связи казалась «terra incognita», открывающая новые перспективы. В переписных книгах можно встретить об этом следующие упоминания: «Олешко Володимеров Воронин сказал отец де иво жил на Руси в Сольвычегодскои в уезде в Правдине деревне в половниках у государева крестьянина у Поздеика Констянтинова и отец де иво умер и по смерти отца своего пришол он в Сибирь во 149-м году(1641) и жил в государеве слободе Верхотурского уезду на Неве в гулящих людех года с два и оброк платил государю и после де того пришол в Софеискую Усть-Ницынскую слободу и в тои слободе женился и сел на Софеиских землях во крестьяне» [3, л.51-51об.]; «Лерка Елфимов Маленкои, а сказал жил де он в Руси Сольвычегодском уезде в деревне Сладе с отцом своим, а отец иво был за государем во крестьянех а дань и оброк платил к Сольвычегодскои и отца де иво убили на службе под Смоленском а после отца своего остался он мал и пришел в Сибирь в Усть-Ницынскую софеискую слободу тому лет с дватцат и болши а в котором году того он не знает и того же году во крестьяне сел на софеиских землях а в Руси отцовскую землю и деревню дет иво Тришка Брехов отдал в монастырь на Приводине» [3,л.27 об.-28].
Крестьяне нередко продавали свои земли, сдавали свое тягло и уходили в Сибирь. Например, Томилко Кашиморов говоря о себе, отмечал
«отец де иво жил на Руси Еренского уезду на Сысоле в Былгорскои волости за государем во крестьянех и деревню де свою продал и сшол отец с матерю иво и с ним в Сибирь во 145-м году (1637) и того же году сели на Софеиских землях во крестьяне…». В основном это приходится на период 30-40-х гг. XVII века и связано это было с неурожаями на севере Европейской части России, вызванными климатическими изменениями.
Одним из факторов, сыгравшим свою роль в переселении части населения в Зауралье и далее в Сибирь являлась служба, в частности ямская гоньба. Поступив на эту службу, крестьяне тем самым пытались найти дополнительные средства к существованию своих семей. Например, Демка Семенов Свистунов описывая свое появление в Покровской слободе отмечает, что его отец примерно в 1612 годах «из Еренского городка сшел в сибирские городы и стал на Тюмени в ямские охотники», а он «пришел в Сибирь в прошлом 150-м году (1645) и жил на Тюмени с отцем в ямских же охотниках». Но по прошествии какого-то времени в связи с тем, что отец его умер, Демка Свистунов «на Тюмени покиня ямскую гонбу сшел в архиепископлю в Покровскую слободу и стал в пашню в прошлом 161-м году(1653)» [3, л.84 об.].
Немалую роль играли в процессе заселения вотчин кровные связи, крестьяне приезжали к родственникам, переселившимся ранее, такова например история Елфимки Леонтьева Сысолятина, будучи государственным крестьянином Сысольской волости Еренского уезда в 1639 году приходит в Усть-Ницынскую слободу к своему дяде Сеньке Иванову Высокому «да и на Сысоле де он жил у него ж Сенки Высоково и женяся сел в пашню на Софийских землях» [3, л.20-20об.].
Встречаются и единичные случаи ссылки крестьян в вотчины Тобольского Софийского дома, точные причины сейчас практически невозможно восстановить. Но вероятнее всего, это отказ выполнения каких-либо поручений хозяев или какие-то проступки. К сожалению, источники фиксируют сам факт ссылки, а не причину. Например, «Пронка Якимов сын кузнец сказал родился де он и жил Звенигородского уезду в Савинском монастыре в бобыльском тягле в Сибирь сослан в ссылку во 189 году (1681) и живет за Софийским домом в бобылях на купленном месте в софийскую казну платит денежный оброк»; «Ивашко Григорьев сын Корец сказал родился де он в Суздальском уезде жил за боярином за Иваном Михайловичем во крестьянех в Сибирь сослан в ссылку во 186-м году (1678) живет за Софейским домом в бобылях платит в софейскую казну годовой денежный оброк живет на подворье» [1,л.5, 6 об.].
Некоторые работные люди приезжали в вотчины по желанию принять христианскую веру, так произошло с Ивашкой Ефремовым, который о себе поведал следующее «родился де он Ивашко в остяках в Сургуте и похотя он Ивашко в православную веру креститца пришол ис Сургута в Тоболеск при Герасиме архиепископе» [3, л.11].
Таким образом, из нескольких перечисленных жизнеописаний крестьян видно, что их жизненный путь был определен рядом случаев, которые могут считаться как поводом, так и причиной к действию. Исключив их, жизнь могла бы сложиться по-другому, но это была бы уже другая жизненная история вне вотчин Тобольского Софийского дома.
При реконструкции процесса заселения вотчин Тобольского Софийского дома в XVII в. по переписным книгам нужно учитывать реалии этой эпохи, в которой был создан источник, потому что он «есть феномен определенной культуры: он возникает в конкретных условиях и вне их не может быть понят и интерпретирован» [7, с.128]. Информация, содержащаяся в данном источнике разнообразна, в большинстве носит скрытый характер. Поэтому историк стремится заглянуть за тексты, чтобы добиться от них сведений, которые они давать не хотят и сами по себе дать не могут [4,с.399-400]. Стоит учитывать и то, что доподлинно восстановить все факты невозможно, ввиду того, что любой источник, а в нашем случае переписные книги, отражает только часть исторической реальности. Как отмечал в своей работе французский исследователь Ж. Дюби, полное знание фактов непостижимо, а единственно доступная реальность заключается в документе, как носителе прошлого [6, с.58].
Список литературы Роль случая в жизненной истории крестьян вотчин Тобольского Софийского дома в XVII веке (по материалам переписных книг)
- Дозорная книга Софийского дома 1684 года. РГАДА. Ф. 214. Оп.1. Кн.1086
- Переписная книга 1625 года//Тобольский архиерейский дом в XVII веке.-Новосибирск, 1994. С. 72-73.
- Переписные книги населения Софийских вотчин 1662 года. РГАДА. Ф.214.Оп.1.Кн.434.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. -М., 1988. -699 с.
- Головнев А. В. Колонизация в антропологии движения//Уральский исторический вестник. -2009. -№ 2(23). -С. 4.
- Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 года//Одиссей. Человек в истории. -М., 1991.
- Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учебное пособие/И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. -М., 2004. -701 с.
- Манькова И.Л. Формирование православного ландшафта Зауралья в XVII в.//Уральский исторический вестник. -2008. -№ 4(21). -С.86.
- Миллер Г.Ф. История Сибири. Т.1. -М, 2000.-632 с.
- Резун Д.Я., Шиловский М.В. Сибирь, конец XVI -начало XX века: Фронтир в контексте этносоциальных и этнокультурных процессов. -Новосибирск, 2005.193 с.