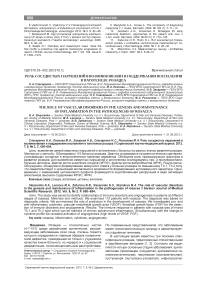Роль сосудистых нарушений в возникновении и поддержании воспаления в патогенезе розацеа
Автор: Слесаренко Н.А., Леонова М.А., Захарова Н.Б., Слесаренко Н.С., Резникова М.А.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Кожные болезни
Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.
Бесплатный доступ
Цель: выявление связей иммунных нарушений и ангиогенеза у больных на разных этапах развития розацеа. Материал и методы. Обследованы 110 больных розацеа. Диагноз основывался на диагностических критериях, учитывающих основные и второстепенные признаки дерматоза. Обобщена роль провоцирующих факторов в развитии розацеа. Для выявления иммунных нарушений и ангиогенеза исследовались про- и противовоспалительные цитокины, фактор роста эндотелия сосудов (ФРЭС), фактор роста фибробластов (ФРФ). Результаты. Обсуждение: обнаружено формирование иммунного ответа у больных розацеа по смешанному Тh-1, Тh-2 типу, что свидетельствует о хронизации воспаления и возможности формирования аутоиммунного характера. Одновременно с изменением цитокинового профиля формируется эндотелиальная дисфункция в виде активации ангиогенеза (высокое содержание ФРЭС, ФРФ).
Ангиогенез, воспаление, розацеа, цитокины
Короткий адрес: https://sciup.org/14917598
IDR: 14917598
Текст научной статьи Роль сосудистых нарушений в возникновении и поддержании воспаления в патогенезе розацеа
По современным представлениям, это заболевание имеет полиэтиологическую природу и характеризуется стадийным течением.
В настоящее время известны три похожие классификации розацеа, предложенные отечественными и зарубежными авторами [1, 2]. Согласно им выделяются четыре основные стадии заболевания: эритематозная (прерозацеа, сосудистая, эритематозно-те-леангиэктатическая); папулезная (воспалительная); пустулезная (пустулезно-узловатая); инфильтратив- но-продуктивная — ринофима (поздняя, пустулезноузловатая). Кроме того, в последней классификации представлены особые формы розацеа (стероидная, гранулематозная или люпоидная, граммнегативная, конглобатная, фульминантная, розацеа с солидным персистирующим отеком, офтальморозацеа, «фимы» с локализаций в области лба, подбородка, уха, век). Выделение этих форм оправдано тем, что они требуют особого подхода к терапии. В 2002 г. экспертный комитет Национального общества «Розацеа», обобщив все классификации, предложил следующую: подтип I — эритематотелеангиэктатический, подтип II — папулопустулезный, подтип III — фиматозный, подтип IV — окулярный. Для правильной постановки диагноза розацеа необходимо наличие не менее двух основных клинических признаков и двух второстепенных [3]. Основные признаки розацеа: транзи-торная эритема, стойкая эритема, папулы, пустулы, телеангиэктазии. Второстепенные признаки: чувство жжения и болезненность, локализация в центральной части лица, отек, поражение кожи век и конъюнктивы, формирование фим.
В этиологии заболевания обсуждается роль генетических, экзогенных факторов: алиментарных, метеорологических, экологических, физических, инфекционных (грамотрицательные бактерии, микобактерия туберкулеза, Helicobacter pylori (H. pylori ), паразитарных (клещ Demodex folliculorum ) и эндогенных (желудочно-кишечных заболеваний; патологии эндокринной и иммунной системы; психовегетативных и гемостатических нарушений; влияние сосудистой патологии и вазоактивных пептидов), взаимосвязь с другими заболеваниями. Несмотря на то, что в настоящее время многими исследователями в развитии розацеа ведущим механизмом признается сосудистый компонент — генетически обусловленное расположение терминальных сосудов в области лица и нарушение микроциркуляции, гистологические исследования подтверждают лишь то, что розацеа является воспалительным заболеванием аппарата волосяных фолликулов и сальных желез, в результате чего происходит расширение сосудов и ангиогенез [1-6]. В последнее время была установлена роль фактора роста сосудистого эндотелия в генезе дерматоза (ФРЭС — VEGF) [6]. Под воздействием провоспалительных цитокинов кератиноциты синтезируют ФРЭС, в результате чего усиливаются проницаемость и вазодилятация, что приводит к развитию стойкой эритемы. Пустулы при розацеа в основном стерильны [3-6]. Воспаление в коже, сопровождающееся повреждением соединительной ткани, способствует пассивному расширению сосудов и застою в них крови. В результате этого в дальнейшем происходит изменение сосудистой стенки. Сквозь нее в периваскулярное пространство «просачиваются» медиаторы воспаления. С другой стороны, сама сосудистая стенка является соединительной тканью и также повреждается в результате воспаления. Тем самым «замыкается» порочный круг.
Кроме того, на тонус сосудов влияют вазоактивные пептиды и медиаторы, такие, как пентагастрин, вазоактивный кишечный пептид — VIP, эндофины, брадикинин, серотонин, гистамин и субстанция Р, простагландины. Это объединяет роль провоцирующих моментов. Под влиянием экзо- и эндогенных факторов и повышенного количества в коже больных розацеа антимикробного пептида кателицина и его активатора калликреина-5 защитные свойства врожденной и приобретенной системы иммунитета реализуются через Толл-рецепторы (TLRs) в виде воспалительной реакции, в которую вовлекаются ке-ратиноциты. Это вызывает нарастание количества цитокинов, факторов роста, матриксных металлопротеиназ, усиление выработки активных форм кислорода и оксида азота, что приводит к морфологическим изменениям в коже и провоцирует сопряженную с этим активацию сосудистого эндотелия и пролиферацию клеток в месте повреждения. Роль адаптивного иммунитета заключается в закреплении и хрониза-ции этих явлений и в конце концов в возникновении аутоиммунного характера воспаления [7].
Кожа наряду с костным мозгом, вилочковой железой, лимфоузлами участвует в выполнении иммунных функций организма. Основу системы SALT — лимфоидной ткани, ассоциированной с кожей, составляют антигенпредставляющие клетки: клетки эпидермиса (кератиноциты, клетки Лангерганса), Т-лимфоциты дермы, тропные к эпидермису, регионарные лимфоузлы. В коже присутствуют иммунокомпетентные клетки, необходимые для реализации иммунных реакций как немедленного, так и замедленного типа. Иммунный надзор здесь осуществляется при синергичном взаимодействии механизмов врожденного (кератиноциты, клетки Лангерганса, дендритные клетки, тканевые базофилы, макрофаги и нейтрофильные лейкоциты) и адаптивного (Т- и В-лимфоциты) иммунитета. По мнению целого ряда исследователей, именно активации Т-клеток принадлежит ведущая роль во взаимодействии между повреждающими агентами, клетками воспалительного инфильтрата, кровеносными сосудами и кератиноци-тами при заболеваниях кожи. Считается, что при повреждении клеточных структур эпидермиса и дермы первоначально увеличивается проницаемость эпидермального барьера для антигенов, затем нарастает выброс кератиноцитами и клетками Лангерганса провоспалтельных цитокинов. Цитокины — низкомолекулярные белки-медиаторы, участвующие в межклеточных взаимодействиях и в регуляции биологических процессов, иммунных реакций, воспаления и васкуляризации. Важнейшей функцией адаптивного иммунитета является формирование иммунологической памяти [8, 9]. Ангиогенез (АГ) — это процесс ответвления новых микрокапилляров от сосудов-предшественников. Он является нормальным физиологическим процессом, который практически не происходит в сформировавшемся здоровом организме (исключениями являются заживление ран и репродуктивный цикл), однако сопровождает целый ряд патологических процессов, для которых характерен избыточный рост сосудов. ФРЭС является ключевым регулятором ангиогенеза. Под влиянием провоцирующих факторов кератиноциты и эпителиоциты продуцируют цитокины, факторы роста, апоптоза. На их поверхности появляются молекулы адгезии, ин-тегрины, молекулы главного комплекса гистосовместимости HLA-DR [9]. Важной характеристикой ФРЭС является его способность повышать проницаемость сосудов, что ведет к вазодилятации и формированию новых сосудов. В результате появляется или усиливается зритема, возникают телеангиэктазии. В дальнейшем запускаются процессы фиброгенеза, которые контролируются «триадой»: лимфоцит + макрофаг + фибробласт. Источник стимуляции фибробластов находится в самом очаге воспаления. Активированные макрофаги усиливают аттракцию фибробластов в зону воспаления и стимулируют не только ангиогенез, но и пролиферацию, что при- менительно к розацеа выражается в формировании узлов и фим [10]. Оценка фиброгенеза призводится с помощью определения фактора роста фибробластов (ФРФ). В связи с изложенным взаимосвязь нарушений иммунного ответа и процессов ангиогенеза в развитии розацеа представляет несомненный интерес.
Целью работы: установить связь нарушений им-мунорегуляторных процессов и ангиогенеза у больных на разных этапах развития розацеа.
Методы. Под нашим наблюдением находились 110 больных розацеа, у всех диагноз был поставлен на основании основных и второстепенных диагностических (клинических) признаков дерматоза. Основную группу (40 человек) составили больные с I подтипом розацеа — эритемато т елеангиэкта т и че -ским; вторую группу (36 пациентов) с подтипом II — папулопустулезным; третью группу (14 человек) с подтипом III — фиматозным (фимы формировались в области носа, побородка, щек, ушных раковин); IY группу (20 больных) с подтипом IV — окулярным. У всех больных были основные (транзиторная эритема, стойкая эритема, папулы, пустулы, телеангиэктазии) и второстепенные (чувство жжения и болезненность, локализация в центральной части лица, отек, поражение кожи век и конъюнктивы, формирование фим) диагностические признаки розацеа.
-
(В ) — средней степени тяжести (больные с II и IY типом розацеа) и третья группа (С) — тяжелой степени тяжести (II и III подтип) общепр и нятой классификации (7 человек). Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц.
Для исследования состояния иммунорегулятор-ных систем использовали определение в сыворотке крови группы провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17, ИЛ-18, противовоспалительного ИЛ-10. Активность процессов ангиогенеза определялась по изменению содержания в сыворотке крови фактора роста эндотелия сосудов (ФРЭС) и фактора роста фиброфбластов (ФРФ). ФРЭС — мультифунк-циональный цитокин, который по паракриновому типу участвует в физиологическом и патологическом неоангиогенезе за счет стимуляции пролиферации эндотелиальных клеток и образования новых сосудов. ФРФ — стимулятор роста соединительно-ткан-ных структур, синергист ФРЭС. Определение содержания цитокинов и факторов роста в сыворотке крови: ИЛ-8, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-17, ИЛ-18, ФРЭС и ФРФ проведено с помощью метода твердофазного иммуноферментного анализа с использованием диагностических наборов (производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск, а также Bender Medsistems, Австрия). Результаты выражали в нг/мл.
Статическую обработку данных производили с помощью пакета прикладных программ Statistica for Windows 6.0 (Stat. Soft, Inc.) с испол ьз ованием п араметрических и непараметрических методов. Различия считались достоверными при p≤0,05.
Результаты. Полученные результаты представлены в табл. 1, 2. Как видно из табл. 1, у больных розацеа показатели содержания в крови почти всех цитокинов провоспалительного профиля (IL-1, IL-6, IL-8, IL-17, IL-18) были достоверно выше, чем у здоровых лиц. Из этих цитокинов наименее значительным было увеличение уровня IL-1β, всего в 2,46 раза
Таблица 1
Содержание цитокинов у больных розацеа в периферической крови (пг/мл; медиана — 25; 75-й процентиль)
|
Интер-лейки-ны, пг/мл |
Здоровые лица |
Больные розацеа легкой степени тяжести (I и II подтип клинических проявлений) — группа А |
Больные розацеа средней степени тяжести (II и IY подтип клинических проявлений) — группа В |
Больные розацеа тяжелой степени (II и IY подтип клинических проявлений0 — группа С |
|
ИЛ-1β |
1,17±0,55 |
2,16±1,050 |
*6,48±0,64 |
#*16,0 ±1,14 |
|
ИЛ-6 |
6,7 ± 2,4 |
8,4±0,78 |
*16,5±2,45 |
*25,3 ±2,33 |
|
ИЛ-8 |
5,6 ± 1,5 |
19,04±2,92 |
*28,6±3,3 |
*45,8 ±1,63 |
|
ИЛ-10 |
2,8 ± 1,3 |
#10,05±1,18 |
*25,6±12,6 |
*104,4±2,45 |
|
ИЛ-17 |
6,56 ± 5,5 |
15,7±1,4 |
18,8±2,54 |
*22,9 ±3,2 |
|
ИЛ-18 |
15,5±5,43 |
38,9±2,22 |
*80,5±12,72 |
*132,6±12,86 |
П р и м еч а н и е : * — статистически достоверные отличия (р<0,05) по сравнению с нормой; # — статистически достоверные отличия (р<0,05) между показателями основной группы с типичными и максимальными проявлениями розацеа.
Таблица 2
Содержание факторов роста (ФРЭС и ФРФ) в сыворотке крови у больных розацеа и здоровых лиц (пг/мл)
|
Факторы роста, пг/мл |
Здоровые лица |
Больные розацеа легкой степени тяжести (I и II подтип клинических проявлений) — группа А |
Больные розацеа средней степени тяжести (II и IY подтип клинических проявлений) — группа В |
Больные розацеа тяжелой степени (II и IY подтип клинических проявлений) — группа С |
|
ФРЭС |
33,3±15,8 |
38,5±2,35# |
46,2± 4,25*# |
156,0± 5,5* |
|
ФРФ |
0,5 ± 0,15 |
21,5±4,65* |
36,8± 15,1*# |
25,3 ± 5,2* |
П р и м еч а н и е : * — статистически достоверные отличия (p<0,05) по сравнению с нормой; # — статистически достоверные отличия (р<0,05) между показателями основной группы с типичными и максимальными проявлениями розацеа.
(р<0,01). Содержание IL-6 повышалось в 3,3 раза (р<0,001), IL-8 — в 8,2 раз (р<0,001), IL-17 — в 3,49 раза (р<0,001), IL-18 — в 8,55 раз (р<0,001). Наиболее значительным было увеличение содержания IL-8 и IL-18, IL-17, которые являются хемокинами, стимулирующими инфильтрацию нейтрофилами, макрофагами тканевых структур, а также продуцируют другие провоспалительные цитокины, например, фактор некроза опухоли-альфа (TNF-а), молекулы адгезии. Кроме того, проведенные исследования показали, что у больных розацеа в сыворотке крови имеются довольно значимые изменения соотношения про- и противовоспалительных цитокинов (табл. 1). Так, при повышенном, по сравнению с донорами, уровне основных провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-17, IL-18) одновременно возрастала и концентрация противовоспалительного цитокина IL-10, причем у больных с выраженными воспалительными и пролиферативными изменениями (группа С) очень значительно, в 37,4 раза (р≤0,001). Такой дисбаланс в нарастании содержания про- и противовоспалительных цитокинов характерен для выраженных сдвигов в системе Т-клеточного иммунного ответа и связан с активацией Т-хелперов как I, так и II типа. Одновременное увеличение содержания в сыворотке крови у больных розацеа IL-10 свидетельствует о хрони-зации воспаления, в результате чего формируются изменения иммунного ответа по смешанному типу Th-l / Th-2 реагирования. Данный цитокин участвует в механизме поддержания периферической толерантности и отрицательной регуляции (downregulation) патологического иммунного ответа, в том числе аутоиммунного характера.
Как видно из табл. 2, у всех обследуемых больных с розацеа одновременно с изменением цитокинового профиля в сыворотке крови формируется эндотелиальная дисфункция, нарушение активности процессов ангиогенеза — в кровотоке накапливаются факторы активации ангиогенеза (ФРЭС и ФРФ), причем по мере нарастания тяжести процесса их содержание увеличивается (в тяжелой стадии — II и III по д типы — ФРЭС в 5 раз, а ФЭС в 50).
Обсуждение. Полученные результаты определения цитокинового профиля, отражающие увеличение провоспалительных интерлейкинов ( (IL-1, IL-6, IL-8, IL-17, IL-18), нарастающие по мере утяжеления патологического процесса в крови больных розацеа, подтверждают наличие воспаления и иммунного ответа по Тh-1 типу . Это п олностью соо т ветствует кл и ни ч еской картине розацеа, характеризующейся основными признаками дерматоза: транзиторная эритема, стойкая эритема, папулы, пустулы, телеангиэктазии; и второстепенными: чувство жжения и болезненность, локализация в центральной части лица, отек, поражение кожи век и конъюнктивы, формирование фим. Но у больных этой категории обнаружено и высокое содержание противовоспалительного цитокина IL-10, следовательно, иммунный ответ в данном случае протекает по смешанному Тh-1 / Th-2 типу, свидетельствующему о хронизации воспаления и, возможно, формировании аутоиммунного характера патологического процесса.
Одновременно с изменением цитокинового профиля в сыворотке крови формируется эндотелиальная дисфункция, нарушается активность процессов ангиогенеза, о чем свидетельствует увеличение содержания факторов активации ангиогенеза (ФРЭС и ФРФ), причем по мере нарастания тяжести процесса их содержание увеличивается (в тяжелой стадии — II и III подтипы — ФРЭС в 5 раз, а ФЭС в 50).
Заключение. Таким образом, современные представления о молекулярных механизмах развития розацеа и наши исследования позволяют отнести это заболевание в группу ангиопролиферативных болезней, в основе которых лежит активация воспаления и ангиогенез. Вопрос о том, что первично в механизме развития розацеа — воспаление или ангиогенез, еще подлежит дискуссии. Воспаление в коже, опосредованное провоцирующими факторами экзогенного и эндогенного характера, включая и вазоактивные пептиды, в которое вовлекаются иммунокомпетентные клетки врожденного и приобретенного иммунитета с нарастанием цитокинов, факторов роста, усиления выработки активных форм кислорода и оксида азота, приводит к расширению сосудов, способствует выходу клеток из сосудистого русла, замедлению апоптоза иммунокомпетентных клеток, к формированию новых сосудов. С другой стороны, сама сосудистая стенка является соединительной тканью и также повреждается в результате воспаления, усугубляя патологический процесс. Клинически это выражается вначале расширением сосудов (эритема), затем их дилатацией (телеангиэктазии, пролиферация клеточных элементов эпидермиса и дермы: папулы, пустулы, последние стерильны и образуются за счет экзоцитозов) и в конце разрастанием соединительной ткани (о чем свидетельствует увеличение содержания фактора роста фибробластов более чем в 50 раз), образуются фимы, сопровождающиеся стазом не только кровеносных, но и лимфатических сосудов. Так замыкается «порочный» круг, а воспалительный процесс сопровождается ангиогенезом, который если и не иницирует воспалительный процесс, то безусловно его усугубляет, тем более что воспаление принимает хронический, рецидивирующий, а в тяжелых случаях и торпидный постоянный характер. Учитывая изложенное, в терапию больных розацеа целесообразно включать лекарственные препараты, которые нормализуют состояние микроциркулятор-ного русла и ангиогенез и которые пока не входят в клинические рекомендации по лечению данной категории больных. Дальнейшие исследования позволят создать технологии по лечению больных розацеа такими препаратами.
Список литературы Роль сосудистых нарушений в возникновении и поддержании воспаления в патогенезе розацеа
- Акне и розацеа/под ред. Н. Н. Потекаева. М.: Бином, 2007. С. 216
- Standart classifcation of rosacea: report of the National Rosacea Society Expert Committee on the classifcation and Staging of Rosacea/J. Wilkin, M. Dahl, M. Detmar [et al]//J/Am. Acad. Dermatol. 2002. Vol. 46, № 4. P. 584 -587
- Powell F. C. Rosacea//N. Engel J. Med. 2005. № 352. P. 793 -803
- Barco D., Alomar A. Rosacea//Actas Dermosifliogr. 2008. № 99. P. 244 -256
- Сницаренко О. В. Вазоактивные полипептиды при розацеа//Вестн. дерматологии и венерологии 1989. № 9. С. 42 -44
- S. Frank [et al.] Regulation of VEGF expression in cultured keratrinocytes: Implications for normal and impaired wound healing//J. Biol. Chem. 1995. № 270. P. 12607 -12613
- Адаскевич В. П., Дуброва В. П. Психологическое сопровождение пациента в дерматологии//Российский журнал кожных и венерических болезней. 2003. № 1. С. 52 -56
- Катунина О. Р., Резайкина А. В. Современные представления об участии кожи в иммунных процессах//Вестн. дерматологии и венерологии. 2009. № 2. С. 39 -49
- Сорокина Е. В., Масюкова С. А. Роль Тоll-подобных рецепторов в патогенезе некоторых дерматозов//Клиническая дерматология и венерология. 2011. № 5. С. 13 -17
- Олисова О. Ю., Додина М. И., Кушлинский Н. Е. Роль фактора роста сосудистого эндотелия в патогенезе розацеа и его медикаментозная коррекция//Клиническая дерматология и венерология 2012. № 1. С. 49 -55.