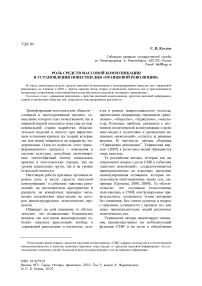Роль средств массовой коммуникации в установлении повестки дня «оранжевой революции»
Автор: Козлов Сергей Васильевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Теория и практика массовой коммуникации
Статья в выпуске: 6 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется роль средств массовой коммуникации в конструировании повестки дня «оранжевой революции» на Украине в 2004 г. Дается краткий обзор теории установления повестки дня и прослеживаются механизмы, позволившие оппозиционным медиа обеспечить массовую поддержку «революции».
"оранжевая революция", средства массовой коммуникации, средства массовой информации, теория установления повестки дня, социальное конструирование реальности
Короткий адрес: https://sciup.org/14737330
IDR: 14737330 | УДК: 80
Текст научной статьи Роль средств массовой коммуникации в установлении повестки дня «оранжевой революции»
Трансформация постсоветских обществ – сложный и многоуровневый процесс, осмысление которого как отечественной, так и мировой наукой находится пока еще на первоначальной стадии выработки объяснительных моделей и гипотез, при нарастающем осознании кризиса тех теорий, которые так или иначе опираются на парадигму модернизации. Один из аспектов этого трансформационного процесса – изменения в системе культуры, способные легитимировать многообразный спектр социальных практик в постсоветских странах, как на уровне социальных групп, так и на уровне отдельной личности.
Настоящая работа призвана проанализировать роль и место средств массовой коммуникации 1 в событиях «цветных революций» на постсоветском пространстве и раскрыть на конкретных примерах механизмы воздействия масс-медиа на акторов реконструируемых политических процессов.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что подавляющее большинство авторов, так или иначе анализирующих события «цветных революций» вообще и «оранжевой революции» в частности, оста- ется в рамках макросоциального подхода, предпочитая оперировать терминами «революция», «общество», «буржуазия», «массы» и пр. Комплекс проблем, связанных с изучением политической коммуникации и роли масс-медиа в подготовке и проведении названных «революций», остается за рамками анализа. В частности, авторы сборника «“Оранжевая революция”. Украинская версия» [2005] к роли масс-медиа обращаются лишь вскользь.
Те российские авторы, которые все же затрагивают вопрос о роли СМК в событиях «цветных революций», сосредотачиваются преимущественно на языковых средствах манипулирования сознанием, которые использовали оппозиционные медиа (см., например: [Громова, 2008; 2009]). То обстоятельство, что сходными технологиями пользовались и СМИ, контролируемые правительством, оставляется этими авторами без внимания. Без ответа остается и вопрос о причинах успешности / провала тех или иных пропагандистских акций различных политических сил.
Украинские авторы акцентируют внимание преимущественно на мобилизующей функции СМИ и их роли в обеспечении торжества справедливости. Например, В. Жу-гай в статье, посвященной развитию украинской медиасистемы, отмечает: «События оранжевой революции наглядно показали способность СМИ мобилизовать общество на сопротивление произволу и нарушениям прав человека» [2006. С. 48].
Таким образом, вопрос о конкретных механизмах воздействия масс-медиа на участников «революционных» событий остается невыясненным.
Важнейшим инструментом анализа механизмов воздействия СМК на аудитории в ходе «оранжевой революции» может стать теория установления повестки дня («agenda-setting» theory), авторами которой являются М. Маккоумз 2 и Д. Шоу. Эта теория в настоящее время – одно из активно разрабатываемых направлений исследования масс-медиа, поскольку она убедительно доказала свою эвристическую ценность и практическую эффективность.
Теория установления повестки дня, появившаяся в результате синтеза позитивистских исследований воздействия средств массовой информации на аудиторию и феноменологических исследований СМК как социального и политического института, была сформулирована в качестве гипотезы М. Маккоумзом и Д. Шоу в начале 1970-х гг., а затем получила дальнейшее развитие в трудах своих создателей и в работах таких авторов, как У. Боот, Дж. Диаринг, Ш. Ийен-гар, Дж. Кингдон, Д. Киндер, Дж. Коген, Р. Нейман, Э. Роджерс, Дж. Уокер, П. Шу-мэйкер и др. [Дьякова, 2002. С. 12].
Теория установления повестки дня рисует следующую схему воздействия СМК на аудитории. Группы, контролирующие информационные СМК, решают, что должно сообщаться публике. Это становится повесткой дня СМИ на определенный момент. В процессе реализации этой повестки дня формируется высокого уровня соответствие между тем, какое внимание уделяют медиа проблеме, и тем, какую важность этой проблеме приписывает публика, получающая информацию о ней из новостных СМИ. Впрочем, эта теория «не предполагает, что масс-медиа диктуют людям, что они долж- ны думать о проблеме и какие принимать решения. Однако она предполагает, что масс-медиа диктует людям, о чем они должны думать и какие проблемы настолько важны, что требуют их решения» [Дьякова, 2002. С. 12]. Другими словами, главное воздействие СМК на аудиторию состоит не во внушении тех или иных взглядов и идей, а в «строительстве повестки дня» («agenda-building»). Когда СМК обращаются к освещению тех или иных событий и проблем, эти проблемы начинают восприниматься аудиторией в качестве наиболее важных и заслуживающих внимания. У них в сознании происходит «воспламенение» («prim-ing») соответствующей проблемной зоны за счет остальных зон и формируется соответствующая «повестка дня», т. е. представление о том, что в данный момент является важным и чему следует уделять особое внимание.
Особенно успешными усилия СМК по формированию повестки дня оказываются, когда речь идет о вопросах, находящихся за пределами индивидуального актуального опыта (см.: [Куренной, 2003]). Фиксация сильных позитивных корреляций между системой приоритетов аудитории и содержанием медиапосланий, касающихся феноменов «большого общества» (знания о котором относятся к сфере опосредованного опыта), позволила Г. Цукеру в ходе дальнейшей разработки данной теоретической модели разделить все проблемы, входящие в повестку дня на «навязчивые» (obtrusive) и «ненавязчивые» (unobtrusive). К числу первых относятся проблемы, известные людям из личного опыта, такие как безработица, инфляция, дорожные пробки и т. п. Именно вследствие постоянного контакта большей части аудитории с этими проблемами они и приобретают общественную значимость. Однако значительная часть проблем, освещаемых СМК, находится за пределами личного опыта аудитории. Такие феномены, как «демократия», «государство», «свобода», «отечество», находятся за пределами очень ограниченного повседневного опыта. Непосредственно проверить соответствие распространяемой медиа информации реальным событиям обыватель не может. Однако это не исключает стремления выйти за пределы повседневности в «большой мир», где можно ощутить включенность индивидуальной биографии в более широкий кон- текст с присущими ему проблемами. Таким образом, «средства массовой информации выступают в качестве единственного учителя и источника сведений об этих проблемах» [Дьякова, Трахтенберг, 1999. С. 66]. Добавим, что исследования «эффекта третьего лица» (third-person-effect studies) показали, что в своих оценках серьезности тех или иных социальных проблем люди полагаются не столько на собственный опыт, сколько на их освещение СМК [Черных, 2007. С. 183].
Многочисленные эмпирические исследования продемонстрировали, что средства массовой информации эффективно воздействуют на аудиторию, когда работают с «ненавязчивыми» проблемами и темами, и значительно менее эффективны, когда речь идет о проблемах, с которыми люди непосредственно сталкиваются в повседневной жизни. На основании этих исследований был сделан вывод о принципиальной ограниченности эффекта установления повестки дня. Успешно ранжируя в сознании аудитории «ненавязчивые», но значимые проблемы, СМК не в состоянии ни скрыть проблемы, с которыми люди сталкиваются лично, ни создать новые приоритеты и стандарты на пустом месте. «Средства массовой информации не убеждают и не внушают, а всего лишь создают у индивида образ реальности, относительно которого он самостоятельно ориентируется и принимает практические решения, причем их возможности по конструированию этого образа далеко не безграничны» [Дьякова, 2002. С. 204].
Дальнейшее изучение эффектов установления повестки дня позволило М. Маккоум-зу сформулировать тезис о существовании не единой повестки дня для общества в целом, а трех повесток, несколько различающихся между собой:
-
• личная, или внутренняя, повестка дня (intrapersonal agenda), которая представляет собой систему приоритетов в отношении наиболее важных для самого индивида проблем;
-
• межличностная, или микрогрупповая, повестка дня (interpersonal agenda) – система приоритетов в отношении тех проблем, которые индивид подвергает обсуждению с членами своей микрогруппы;
-
• воображаемая общественная повестка дня (perceived community agenda) – пред-
ставления индивида о том, какие проблемы являются наиболее важными для того сообщества, к которому он принадлежит [Дьякова, 2002. С. 215–216].
СМК могут влиять на все виды повестки дня, но именно воображаемая общественная повестка дня определяется ими полностью. При этом ключевой для формирования личной повестки дня является не воображаемая общественная, а межличностная повестка. Именно обсуждение материалов средств массовой информации с другими людьми формирует систему приоритетных проблем. При этом речь идет прежде всего о ненавязчивых проблемах, по отношению к которым наиболее полно реализуется эффект установления повестки дня, поскольку, «когда индивиды сталкиваются с теми или иными проблемами в реальной жизни, они не испытывают особой нужды в том, чтобы средства массовой информации подсказывали им, что данные проблемы являются важными, и не нуждаются в газетах и телевидении для того, чтобы начать обсуждение таких проблем» [Там же. С. 216].
Исследователи, работавшие над разработкой теории установления повестки дня, отмечали, что особое значение имеет процесс формирования политической повестки дня, поскольку политика и масс-медиа теснейшим образом переплетены друг с другом. М. Маккоумз и Д. Шоу писали: «Может быть, в большей степени, чем любой другой аспект нашей среды, политическая сфера со всеми ее явлениями и личностями, относительно которых формируются наши мнения и представления, представляет собой реальность second hand. С политикой – особенно на общенациональном уровне – мы практически не имеем прямого непосредственного контакта. Наше знание приходит из СМИ. Как правило, мы осведомлены только о тех аспектах общенациональной политики, которые считаются достаточно интересными, чтобы быть транслированными через масс-медиа» (цит. по: [Черных, 2007. С. 37]).
Обобщив результаты многочисленных исследований, Дж. Диаринг и Э. Роджерс разработали модель, показывающую, как взаимодействуют между собой несколько конкурирующих повесток:
-
• политическая повестка дня, которую устанавливает государство;
-
• медиаповестка, которую устанавливают средства массовой информации;
-
• публичная повестка дня, которая формируется в общественном мнении под влиянием двух предыдущих повесток, а также под влиянием личного опыта, который, будучи «индикатором реальности», существенно ограничивает возможности манипуляции общественным мнением со стороны государства и средств массовой информации» [Дьякова, 2002. С. 270].
В целом исследователи сходятся в том, что установление повестки дня не производится сознательным волевым актом одного субъекта: повестка возникает на пересечении усилий различных СМК, а также разных социальных институтов и групп влияния.
Сам создатель теории установления повестки дня М. Маккоумз считал, что его модель в принципе применима лишь при изучении «свободных СМИ в свободной стране», однако, как справедливо отмечает С. В. Гончарова, «пока остается не вполне проясненным вопрос о степени применимости технологии установления повестки дня в странах с ограниченно свободными СМИ» [2006. С. 92]. Настоящая работа призвана внести вклад в разрешение этой проблемы.
Представляется, что теория установления повестки дня может быть с успехом использована для объяснения событий «оранжевой революции».
«Повестка дня» «оранжевой революции» начала формироваться задолго до старта кампании по выборам президента Украины. Ведущую роль в этом процессе сыграли приобретенный соратником В. Ющенко Петром Порошенко телевизионный «5 канал», ТРК «Эра» и такие центральные издания, как «Украина молодая», «Без цензуры», «Правда Украины», «Сельские вести» 3, а также значительное число районных газет центральных и западных регионов Украины и многочисленные Интернет-ресурсы. Основной акцент в развернутой ими пропагандистской кампании был сделан на «ненавязчивые» проблемы. С. Мирзоев так харак- теризует ее сущность: «СМИ “За Ющенко” делали акцент на пропаганде лозунгов: “Власть преступная”, “Янукович – ставленник власти”, “Янукович нелегитимен”» [2006. С. 29].
Действительно, можно выделить несколько направлений, по которым шло конструирование проблем оппозиционными СМК 4.
-
1. Кампания по дискредитации действующей власти. Суть ее сводится к тому, что существующий в стране режим является коррумпированным и авторитарным. Его пролонгация не принесет народу ничего позитивного. В рамках этой кампании активно использовался тезис Ющенко, который он развивал еще на парламентских выборах 2002 г.: в стране нет кризиса экономики, нет кризиса политики, нет кризиса духовности. Есть кризис власти. Поменяется власть – все в стране изменится к лучшему.
-
2. Кампания по дискредитации кандидата в президенты В. Януковича. Лейтмотивом ее стал лозунг «Не хотим президента-зэка». Победа Януковича на выборах изображалась как качественное преображение власти – из плохой в ужасную. Негативный образ дважды судимого Януковича увязывался с «криминальным» стилем донецкого бизнеса и угрозой рейдерских захватов, исходящих от «донецких» (что было особенно актуально для представителей мелкого и среднего бизнеса) 5.
-
3. Кампания по формированию убежденности в том, что власть в обязательном порядке прибегнет к административному давлению и искажению результатов выборов. Отметим, что этот конструируемый оппозиционными медиа образ неминуемых подтасовок, которые вызовут возмущение граждан, в конечном счете выполнил роль «самоисполняющегося пророчества» (термин Р. Мертона, обозначающий «изначально ложное определение ситуации, вызывающее новое поведение, которое делает
изначально ложное представление истинным» [Мертон, 2006]).
-
4. Кампания собственно В. Ющенко как «народного президента». Примечательно, что в ней активно использовался образ Европы в качестве антитезы существующему положению и (достижимого) позитивного образа будущего. При этом задавалась эквивалентность конкретных политических сил и конкретных фигур (особенно В. Ющенко) с «европейским выбором» и перспективами евроинтеграции.
Усилия оппозиционных политиков и журналистов контролируемых ими СМИ были направлены на социальное конструирование политической реальности для активной части населения. Зреющее недовольство, оформлялось и канализировалось. Хотя, рассмотрение причин и динамики этого недовольства не является предметом настоящей статьи, отметим, что попытки многих авторов трактовать поведение аудитории как навязанное и манипулируемое извне представляются неадекватными. Аудитория характеризовалась собственной активной позицией, способностью самостоятельно отбирать те темы и сообщения, которые в наибольшей степени отражали ее позицию. Оппозиционные масс-медиа предоставляли набор интерпретационных схем и дискурсивных конструкций для понимания социально-политической ситуации, создавали легитимную для недовольных политическим режимом картину украинской политики, параллельно лишая легитимности реальность, конструируемую теми СМИ, которые контролировались правительством.
Важно отметить, что проправительственные СМИ не могли составить значимой конкуренции той версии реальности, которая конструировалась оппозиционными медиа. С одной стороны, упор в кампании премьер-министра В. Януковича делался на усилия возглавляемого им правительства по решению «навязчивых» проблем – демонстрировались успехи по сокращению безработицы, повышению пенсий, обеспечению экономического роста и пр. Однако усилия проправительственных СМИ, говоривших об успехах, разбивались о собственный опыт реципиентов, обремененных многочисленными «навязчивыми» проблемами, на которые невиданный экономический рост практически не повлиял. С другой стороны, властная повестка дня в некоторых аспектах (в частности, в плане подчеркивания важности выборов президента для будущего страны) совпадала с повесткой, предлагаемой оппозиционными СМК, усиливая значимость последней. Таким образом, совпадающие моменты официальной и оппозиционной повесток дня способствовали усилению личного интереса избирателей к проблеме выборов. В результате выборы начали восприниматься как касающиеся личной судьбы каждого гражданина (возможностью защитить свои права и отстоять свои интересы), что усиливалось межличностной коммуникацией по политической проблематике. «“Это – наша страна! – утверждали они. – Мы голосовали за Ющенко, потому что он – наше будущее!” Их язык – заметьте, в совершенно приватном частном разговоре – стал подобен языку митинговых выступлений!» [Осипов, 2005. С. 53]. Не сработали и задействованные проправительственными СМИ приемы дискредитации В. Ющенко при помощи обвинения его в национализме. Сформировавшийся у значительной части населения (особенно в западных и центральных регионах Украины) спрос на национальную идентичность блокировал восприятие этой тематики в качестве значимой проблемы 6.
Одним из применяемых оппозиционными медиа инструментов делегитимации режима и его основных фигур было использование политической сатиры. Массовой популярностью пользовались распространяемые в Интернете сериал «Операция ПроФФесор» и проект «Веселые яйца», едко высмеивавшие кандидата в президенты В. Януковича. Их производило возглавляемое Д. Чекалкиным спонсорское агентство «Дива продакшин». Курировала проект Ю. Тимошенко 7. Осмеяние позволило дове- сти непочтение к власть имущим до пароксизма. Одновременно снижался порог тревожности аудитории – смешное не может быть страшным.
Важно отметить, что оппозиционные медиа выступали не просто как пассивный ретранслятор сообщений, исходящих от оппозиционных политиков (и «по совместительству» – владельцев конкретных СМИ). Помимо речей и обращений лидеров оппозиции материалы в печатных и электронных СМК содержали значительное число текстов, произведенных непосредственно журналистами. Именно их усилиями происходившие в стране события наделялись смыслом, трактовались определенным образом, задавали перспективу восприятия происходящего аудиториями. В. Осипов отмечает: «При этом телевидение, за исключением одного канала, оставалось в руках власти. Но именно этот канал работал во всех кафе, ресторанах, аэропортах – везде, где были телевизоры. Стандартный ресторанный репертуар сменил пятый канал – речи Тимошенко, репортажи из Рады и т. д.» [2005. С. 53].
Таким образом, социальная реальность значительных слоев населения оформлялась усилиями оппозиционных масс-медиа. Формируемые ими представления седиментировались и воспринимались как единственная реальность. В результате оппозиции удалось установить благоприятную для себя повестку дня. Повесткообразующий для аудитории характер приобрели именно те проблемы, которые конструировали оппозиционные СМК. Г. Г. Почепцов следующим образом определил повестку дня «революции»: «…лозунги “против” – это против фальсификаций, против преступного режима, лозунги “за” – это за свободу, социальные изменения, экономические улучшения» [2005. С. 237].
Именно под влиянием масс-медиа сформировались персональные повестки дня для десятков тысяч киевлян и жителей других городов, принявших участие в митингах на Майдане Незалежности в Киеве и многочисленных «майданчиках» в других городах. Медиареальность задала перспективы восприятия ими собственных персональных биографий, включения их в общенациональный контекст и сказалась на формулировании актуальных наличных целей 8.
«Они никогда раньше не интересовались политикой, не задумывались о будущем страны. Но они с таким жаром произносили слова, которых, казалось, прежде не знали, что я был поражен!» – отмечает В. Осипов [2005. С. 52]. Наиболее важными и заслуживающими внимания проблемами для них представлялись негативные компоненты повестки дня – возможный приход к власти «кандидата-зэка» и массовые фальсификации, искажающие волю народа (прежде в сего в силу того, что, как подчеркивает С. В. Гончарова, «негативная информация интереснее аудитории» [2006. С. 92]). Поэтому когда оппозиционные СМК объявили о «невиданном масштабе нарушений» в ходе голосования 21 ноября 2004 г., в сознании аудитории произошло «воспламенение» этой проблемной зоны и сформировалась соответствующая «идея дня», т. е. представление о том, что в данный момент абсолютным личным приоритетом является противодействие «преступной власти», собирающейся «украсть победу» у «народного кандидата» и сделать президентом зэка. «Самоисполняющееся пророчество» исполнилось, и Майдан получил огромное количество участников 9.
Зарубежные исследования эмпирического материала показали, что максимальное совпадение медийной и персональной повесток демонстрируют молодые мужчины. Детерминировано это тем, что именно они являются наиболее активными читателями газет (см.: [Черных, 2007. С. 40]). Эти выводы в целом подтверждаются и на материале «оранжевой революции». Большинство участников Майдана составляла молодежь 20–30-летнего возраста. Однако, вероятно, роль газет была в данном случае не столь значительной. Их в качестве бесцензурного массового средства информирования и коммуникации для украинской молодежи в значительной степени заменил Интернет. Тем не менее именно молодые люди стали костяком Майдана, поскольку являлись наиболее активными пользователями Интернета и потребителями информации, тиражируемой сайтами, поддерживающими оппозицию.
В целом можно констатировать, что теория установления повестки дня является весьма эффективным инструментом анализа событий «оранжевой революции», позволяющим вскрыть конкретные механизмы конкуренции между различными социальными группами за формирование легитимных схем интерпретации политической реальности.
THE AGENDA-SETTING ROLE OF THE MASS MEDIA IN THE «ORANGE REVOLUTION»