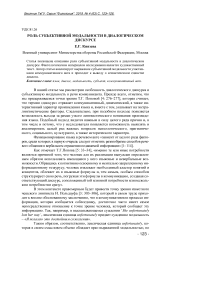Роль субъективной модальности в диалогическом дискурсе
Автор: Князева Елена Георгиевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена описанию роли субъективной модальности в диалогическом дискурсе. Фактологическим материалом исследования является художественный текст. Автор статьи анализирует выражение субъективной модальности участниками коммуникативного акта и приходит к выводу о семантическом единстве диалога.
Язык, диалог, модальность, субъект, коммуникативный акт
Короткий адрес: https://sciup.org/146281514
IDR: 146281514 | УДК: 81.26
Текст научной статьи Роль субъективной модальности в диалогическом дискурсе
В нашей статье мы рассмотрим особенность диалогического дискурса и субъективную модальность в речи коммуниканта. Прежде всего, отметим, что мы придерживаемся точки зрения Т.Г. Поповой [4: 276–277], которая считает, что термин «дискурс» отражает коммуникативный, динамический, а также интерактивный характер произведения языка и, вместе с тем, указывает на экстра-лингвистические факторы. Следовательно, при подобном подходе появляется возможность выхода за рамки узкого лингвистического понимания произведения языка. Подобный подход видится важным в силу целого ряда причин и, в том числе и потому, что у исследователя появляется возможность выявлять и анализировать целый ряд важных вопросов психологического, прагматического, социального, культурного, а также исторического характера.
Функционирование языка в речевом акте «зависит от целого ряда факторов, среди которых в первую очередь следует отметить разнообразие способов речевого общения в вербальном отражении подаваемой информации» [1: 114].
Как отмечает Т.Г.Попова [5: 33 – 34], «именно те или иные потребности являются причиной того, что человек для их реализации вынужден определенным образом использовать имеющиеся у него языковые и невербальные возможности. Обращаясь к когнитивно освоенному и ментально закрепленному информационному тезаурусу, человек извлекает необходимый кластер понятий и концептов, облекает их в языковые формулы и, тем самым, особым способом структурирует свою речь, погружая эти формулы в коммуникацию, создавая соответствующий дискурс, соположенный той или иной потребности или нескольким потребностям сразу».
В этом контексте правомерным будет привести точку зрения известного чешского лингвиста И. Польдауфа [3: 303–306], который в своем труде приходит к вполне обоснованному заключению, что в коммуникативном процессе информация, которая сообщается собеседнику, достаточно часто имеет самое непосредственное отношение к точке зрение человека, который сообщает эту информацию. Так, например, в высказывающемся суждении ‘ She unfortunately lost her way’ , лексическая единица unfortunately придает суждению модальность – « Я полагаю это достойным сожаления ».
Таким образом, соответственно, лексическая единица unfortunately, которая в своем смысловом объеме обладает ярко выраженной модальностью, по мнению И. Польдауфа [3 : 135], относятся к средствам выражения интеллектуальной оценки со стороны лица, имеющего определенную заинтересованность. Говоря иными словами, речь здесь идет о важности проявления субъективной модальности.
Этот тип модальности в речевом акте выражает оценку отправителем информации степени информированности о возможных, необходимых и действительных связей. Таким образом, субъективная модальность в речевом акте отражает степень достоверности точки зрения нашего собеседника о той или иной конкретной ситуации.
Приведем диалог, взятый нами из произведения Джордж Элиот «Мельница на Флоссе».
– Вы придумали новое блюдо для Минни, и она теперь будет ежедневно получать три миндальных печенья с десертной ложкой сливок.
– Вот и не угадали.
– Тогда, быть может, пастор Кен призывал в своей проповеди не слишком увлекаться пышными юбками и рукавами, и вы, дамы, обратились к нему с петицией, где сказано, что это требование церкви слишком сурово и не под силу ни одному верующему?
– Фи, и вам не стыдно? – проговорила Люси, строго поджимая губки. – Какой же вы недогадливый! А мне казалось, вы поймете меня с полуслова; ведь я совсем недавно упоминала об этом в разговоре.
– О чем только вы не упоминали совсем недавно! Неужели, довольствуясь лишь этим обстоятельством, я должен тотчас же узнавать, о чем идет речь? Вот оно – женское тиранство!
– Я знаю, вы считаете меня глупенькой.
– Я считаю вас очаровательной.
– И мое очарование состоит главным образом в моей глупости?
– Этого я не говорил.
– Но ведь мне хорошо известно, что вы предпочитаете недалеких женщин. Вас выдал Филипп Уэйкем: как-то в ваше отсутствие он сказал мне об этом («Мельница на Флоссе», 1983: 237).
Немаловажная часть реальной действительности, с которой отправитель сообщения сверяет свое вербальное поведение, уже отражена в его речевых сообщениях. Например, такая реплика, как « О чем только вы не упоминали совсем недавно ?» имеет весьма явную соотнесенность с репликами, высказанными ранее, как, например, « Какой же вы недогадливый! А мне казалось, вы поймете меня с полуслова; ведь я совсем недавно упоминала об этом в разговоре» и так далее.
Таким образом, все перечисленные реплики вышеприведенного нами диалога хотя и имеет отношение к разным субъектам с разными коммуникативными интенциями и, соответственно, обладают разной индивидуальной модальностью, тем не менее, имеют общую специфическую целостную область референции.
Приведем продолжение разговора Люси и Стивена:
– О, я знаю, Филипп в этом вопросе непримирим: можно подумать, что речь идет о чем-то, касающемся его лично. Должно быть, он томится по какой-нибудь незнакомке, по некоей возвышенной Беатриче, повстречавшейся ему за границей.
– Кстати, – сказала Люси, отрываясь от вышивания, – мне только что пришло в голову, что я так и не выяснила, как отнесется моя кузина Мэгги к присутствию Филиппа. Ее брат не желает с ним встречаться; Том не переступит порога, если ему заранее будет известно, что у нас Филипп. Возможно, и Мэгги не захочет его видеть. Тогда, увы, мы не сможем больше петь наши трио.
– Что! К вам приезжает ваша кузина? – воскликнул Стивен, и на лице его промелькнула тень неудовольствия.
– Да, это и есть та самая новость, которую вы не смогли угадать. Мэгги хочет отказаться от места, где она, бедняжка, пробыла почти два года – с тех пор как умер ее отец, – и погостить у меня месяц-два… а может быть, и больше.
– И я должен выразить радость по этому поводу?
– О, вовсе нет, – сказала Люси, задетая за живое, – для меня это большая радость, но вы совсем не обязаны разделять ее. Я люблю Мэгги больше всех моих подруг! (Мельница на Флоссе 1983: 237).
На основе этого диалога мы можем понять, что Стивен явно осознает референтную ситуацию, обладая возможностью образовать в своем речевом сообщении тот смысл, который связан и скоординирован с ожидаемым Люси смыслом. Таким образом, соответственно, в речевом акте имплицитно происходит замещение сообщения.
Коммуникативный акт, представленный этим диалогом, представляет собой дискурсивное образование, которое состоит из высказываний, продуцируемых обоими участниками коммуникативного акта и, следовательно, таким образом, обладает целостной семантикой. Но как мы видим, в приведенном нами диалоге общая целостность семантики коммуникативного акта совершенно не означает однородность модальности высказывания.
Что касается остальных реплик цитируемого диалогического речевого акта, то они содержат общий денотат с прямым обозначением, который для вышеприведённого диалогического сообщения является непосредственным общим стержнем, выстраивающим вокруг себя очень чёткую семантическую систему диалогического единства.
В контексте описания выражения субъективной модальности в речевом сообщении участников коммуникативного акта, весьма важно обратить внимание на семантическое единство диалога, к которому можно относиться как содержанию текста, под которым А.И. Новиков [2: 110] предлагает понимать «тот семантический комплекс, который возникает в мышлении автора в соответствии с замыслом, целями, условиями коммуникации и понимается адресатом в результате декодирования языковых выражений, посредством которых он был задан в тексте. Он состоит из совокупности денотатов, отражающих иерархию тем и субтем. В мышлении он представляет собой единое целостное образование, поскольку базируется на системе предметных отношений, сформированных в интеллекте человека в его предшествующем опыте, и новых отношениях, заданных текстом».
Говоря иными словами, «речь здесь идет о ценностно-смысловом отношении к реальной действительности, которая окружает человека. Вместе с тем, в этом контексте также необходимо отметить и то, что ценность представляет собой сущностную характеристику языка как абстрактного явления» [6: 72].
Таким образом, исследование субъективной модальности дает нам возможность выйти за рамки сугубо лингвистических вопросов и способствует выявлению и последующему анализу целого ряда вопросов более широкого междисциплинарного характера. Мы имеем в виду такие проблемы как роль самых разных когнитивных механизмов в ходе восприятия текстов, а также целый ряд вопросов, которые связаны семиотической гибридизацией в текстовых произведениях и так далее и тому подобное.
Следующий наш вывод заключается в том, что основу пресуппозиций составляют правила коммуникации и особенностей коммуникативных ситуаций. Такой подход к деятельностной природе диалогового дискурса предполагает понимание того, что речевую коммуникацию необходимо описывать на фоне субъективной модальной деятельности участников коммуникативного акта .
THE ROLE OF SUBJECTIVE MODALITY IN DIALOGUE DISCOURSE
Military University, Moscow
The paper is devoted the evaluation of subjective modality in dialogue discourse. The research is based on the material of a literary text. The author of the paper describes subjective modality and comes to the conclusion that a dialogue has a semantic unity. Keywords : language, dialogue, modality, subject, communicative act.
Об авторе:
Список литературы Роль субъективной модальности в диалогическом дискурсе
- Князева Е.Г. Лингвокогнитивные механизмы речевого акта // Вестник Костромского государственного университета. Т.23. №2. 2017. С. 114?116.
- Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация. М.: Наука, 1983. 216 с.
- Польдауф И. Место грамматики и лексикологии в изучении вопросов глагольного вида // Вопросы глагольного вида / под редакцией Ю.С. Маслова. М.: ИЛ, 1962. С. 303.
- Попова Т.Г. Категория информативной насыщенности юридического дискурса. // Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам и переводу в вузе. Материалы международной конференции. 2011. С. 276 - 277.
- Попова Т.Г. Национально-культурная семантика языка и когнитивно-социокоммуникативные аспекты (на материале английского, немецкого и русского языков). Монография / Попова Татьяна Георгиевна; Министерство образования Российской Федерации, Московский государственный областной университе. Москва, 2003. 147 с.
- Попова Т.Г., Бокова Ю.С. Категория "ценность" как сущностная характеристика языка. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. 2012. № 2 (261). С. 72.