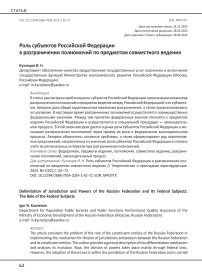Роль субъектов Российской Федерации в разграничении полномочий по предметам совместного ведения
Автор: Кузнецов И.Н.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (20), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена проблема роли субъектов Российской Федерации в реализации механизма разграничения полномочий и предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами. Автором дана общая характеристика механизма разграничения, а также проанализировано его развитие. В настоящее время разграничение полномочий осуществляется преимущественно федеральными законами. Между тем принятие федеральных законов относится к предметам ведения Российской Федерации и осуществляется в специальной процедуре - законодательном процессе. В этой связи автором дается оценка роли субъектов Российской Федерации в механизме разграничения полномочий через призму их роли в федеральном законодательном процессе. Автором обозначены основные проблемы, а также сформулирован ряд перспективных предложений, направленных на усиление роли субъектов Российской Федерации и степени учета их региональных интересов при разграничении полномочий.
Федерализм, предметы ведения, полномочия, совместное ведение, разграничение полномочий, законодательный процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/14130609
IDR: 14130609 | DOI: 10.22394/2686-7834-2024-2-62-72
Текст научной статьи Роль субъектов Российской Федерации в разграничении полномочий по предметам совместного ведения
Рациональное распределение полномочий между Федерацией и субъектами является одной из центральных проблем федерализма, от степени успешности решения которой зависит политическая и социально-экономическая обстановка в стране, а также ее международное положение1.
Конституция РФ устанавливает модель разграничения предметов ведения и полномочий между федеральным и региональным уровнями власти в самом общем виде, в частности, определяя предметы ведения, относящиеся к исключительному ведению каждого уровня власти (ст. 71 и 73 Конституции РФ) и к их совместному ведению (ст. 72 Конституции РФ). В Конституции РФ также устанавливается перечень правовых регуляторов, которые надлежит использовать для дальнейшего разграничения предметов ведения и полномочий между уровнями власти.
Закрепленный в Конституции РФ механизм дополняется новыми правовыми инструментами, не упомянутыми в основном законе. В настоящее время между конституционным механизмом разграничения полномочий и механизмом, закрепленным федеральными законами, имеются коллизии, что порождает проблемы в научном и практическом восприятии разграничения и уточнения властных полномочий органов публичной власти.
В частности, конституционный механизм, определяя предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов в качестве «совместных», предполагает осуществление правового регулирования по ним на началах кооперации и сотрудничества. Вместе с тем конституционная практика сформировалась таким образом, что роль субъектов Федерации в механизме разграничения полномочий оказалась сведена к минимуму и является недостаточной.
Кроме того, в 2021 г. был принят Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 414-ФЗ), который оставил без существенных изменений регулирование механизма разграничения полномочий и предметов ведения. Следовательно, упомянутые коллизии сохранились.
Общая характеристика механизма разграничения полномочий и предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами
По своей природе федерация как форма государственного устройства предполагает разделение полномочий между федеральным и региональным уровнями власти, так как субъекты федерации должны обладать собственными полномочиями, осуществляемыми независимо от федерального центра. В противном случае федеративное государство лишается одного из своих базовых признаков, тем самым сближаясь с унитарным государством2.
Первоначально, в 1993 г., авторы Конституции РФ закрепили в Российской Федерации кооперативную модель федерализма1. Кооперативная модель федерализма предполагает закрепление совместной компетенции Федерации и субъектов Федерации, то есть определенной сферы, в которой требуется кооперация и сотрудничество федерального центра и составных частей Федерации2. Воплощением данной модели стали ст. 71 и 72 Конституции РФ, устанавливающие две сферы предметов ведения — федеральную и совместную (совпадающую). При этом компетенция субъектов Федерации сформулирована по остаточному принципу и на конституционном уровне не конкретизируется (ст. 73 Конституции РФ).
Основными элементами модели кооперативного федерализма являются предметы ведения и полномочия.
Под предметами ведения понимаются сферы государственной или общественной жизни, которые находятся в распоряжении соответствующих государств или государственных образований и внутри которых органы власти осуществляют те или иные полномочия3. Предметы ведения являются своего рода границами, в рамках которых соответствующие уровни публичной власти вправе действовать самостоятельно или же совместно, в части, касающейся предметов совместного ведения.
В свою очередь, под полномочиями понимается одновременно право и/или обязанность государства, государственных образований и их органов по рассмотрению и решению конкретных вопросов в рамках соответствующих сфер (предметов ведения)4.
Необходимым условием эффективной реализации полномочий, осуществляемых в рамках предметов совместного ведения, является их разграничение (распределение) между Федерацией и субъектами Федерации. В связи с этим ч. 3 ст. 11 Конституции РФ закреплено, что разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется Конституцией, федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий .
Конституция РФ не конкретизирует и не разграничивает основной массив полномочий между федеральным и региональным уровнями власти. Данные полномочия разграничиваются федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий (ст. 11).
Вопросы, ранее урегулированные федеративным договором, в том числе касающиеся разграничения полномочий, в большинстве своем нашли отражение в положениях Конституции РФ. При этом в соответствии с ч. 4 п. 1 разд. 2 Конституции РФ в случае несоответствия положениям Конституции РФ положений федеративного договора применяются положения Конституции РФ.
Учитывая изложенное, следует признать, что для разграничения полномочий и предметов ведения федеративный договор имеет субсидиарный, факультативный характер5.
Иные договоры о разграничении предметов ведения и полномочий на сегодняшний день отсутствуют. Срок действия последнего такого договора истек в 2017 г., а новые договоры не заключались6. Фактически договорная модель разграничения полномочий в настоящее время находится в спящем состоянии, уступив свое место законодательной7.
При этом, как показала конституционная практика, данных регуляторов оказалось недостаточно. Общий характер разграничения полномочий и предметов ведения в Конституции РФ, а также невозможность в некоторых случаях заключить договор о разграничении полномочий требовали от федерального законодателя поиска новых путей решения обозначенной проблемы. Осложняла ситуацию и невозможность перераспределения предметов ведения Федерации и субъектов Федерации, установленных Конституцией РФ1.
Указанное повлекло за собой развитие конституционного механизма разграничения полномочий и предметов ведения, результатом которого стало появление нового правового инструмента разграничения — федерального закона.
Рамочным законом, регулирующим вопросы разграничения полномочий между уровнями публичной власти, до начала 2003 г. являлся Федеральный закон № 119-ФЗ, согласно которому по предметам совместного ведения издаются федеральные законы, определяющие общие принципы правового регулирования (в том числе принципы разграничения полномочий), а также федеральные законы, направленные на реализацию полномочий федеральных органов государственной власти2.
С началом административной реформы федеральный закон как правовой инструмент претерпел качественные изменения. В Федеральный закон № 184-ФЗ были внесены изменения, предусматривающие закрепление в нем полномочий субъекта РФ по предметам совместного ведения (всего 41 полномочие)3.
Обновленная модель разграничения полномочий предусматривала необходимость закрепления всех полномочий субъектов Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемых за счет средств регионального бюджета, в перечне, установленном ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ. В случае закрепления новых полномочий за субъектами РФ данный перечень также подлежал уточнению. Такой механизм позволял достичь определенности в вопросах финансового обеспечения полномочий субъектов Федерации по предметам совместного ведения.
Однако ч. 3 ст. 11 Конституции РФ не предусматривает возможности разграничения полномочий посредством принятия федерального закона, в связи с чем была выявлена коллизия между новеллами Федерального закона № 184-ФЗ и положениями Конституции РФ.
Данная коллизия была разрешена Конституционным cудом РФ, который указал, что «федеральный закон как нормативный правовой акт общего действия, регулирующий те или иные вопросы (предметы) совместного ведения, определяет права и обязанности участников правоотношений, в том числе полномочия органов государственной власти, и тем самым осуществляет разграничение этих полномочий»4. Таким образом была подтверждена конституционность данного подхода к разграничению полномочий.
Вместе с тем сформировавшийся механизм, где основным правовым инструментом разграничения полномочий является федеральный закон, не лишен определенных недостатков. Фактически федеральный законодатель монополизировал разграничение полномочий по предметам совместного ведения. Субъекты Федерации также участвуют в данном механизме, в связи с чем требуется оценить их роль в его реализации.
Роль субъектов Федерации в разграничении совместных полномочий через федеральный законодательный процесс и иные формы участия
Учитывая, что разграничение полномочий осуществляется, прежде всего, посредством принятия федеральных законов, то участие субъектов РФ в реализации механизма разграничения полномочий следует начинать с анализа их роли в федеральном законодательном процессе.
Так, согласно ч. 1 ст. 39 Федерального закона № 414-ФЗ, проекты федеральных законов по предметам совместного ведения подлежат согласованию с субъектами Федерации. В частности, предусмотрено, что в случае, если более чем одна треть субъектов РФ выскажется против принятия соответствующего федерального закона, по решению Государственной Думы создается согласительная комиссия. При этом статус данной комиссии до настоящего времени не урегулирован, что создает правовую неопределенность в вопросе последствий ее создания, полномочий, а также касательно решения, к которому могут прийти стороны по итогам ее работы. Причиной тому может быть отсутствие практики работы данной комиссии в связи с тем, что она еще ни разу не создавалась.
При этом роль согласительной комиссии уже была предметом рассмотрения Конституционного суда РФ. Так, в деле о проверке Земельного кодекса заявители ссылались, в числе прочего, на нарушение процедуры принятия федерального закона в связи с тем, что после получения отрицательного отзыва от более чем одной трети субъектов РФ Государственная Дума не создала согласительную комиссию, как того требовала действовавшая на тот момент ст. 13 Федерального закона № 119-ФЗ1. Конституционный суд РФ, однако, не усмотрел нарушения процедуры принятия федерального закона, указав, что субъекты Федерации выразили свое отношение к принятому закону на стадии его рассмотрения в Совете Федерации, который на тот момент состоял из руководителей органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ2. Таким образом было подтверждено право федерального законодателя не учитывать мнение регионов, выраженное ими в процедуре согласования законопроектов, что придает данной процедуре преимущественно законосовещательный характер3.
Вместе с тем данная оценка роли согласительной комиссии была дана применительно к конкретной ситуации и тесно увязана с действовавшим на тот момент порядком формирования Совета Федерации, состоявшего из двух представителей от каждого субъекта Федерации — руководителей органов законодательной и исполнительной власти. На сегодняшний день Совет Федерации состоит из представителей органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, которые наделяются полномочиями сенаторов указанными органами и не являются их руководителями. Данное обстоятельство вновь ставит вопрос о необходимости определения правового статуса указанной комиссии4.
Кроме того, субъекты Федерации достаточно пассивны при предоставлении отзывов на законопроекты по предметам совместного ведения. С момента принятия Земельного кодекса в 2004 г. Государственная Дума не получала одной трети или более отрицательных отзывов от субъектов Федерации. В литературе обозначаются различные причины этого: короткий срок представления отзывов (от 15 до 30 дней по решению Совета Государственной Думы), в течение которого необходимо соблюсти установленную процедуру подготовки отзыва (в частности, отзыв законодательного органа субъекта РФ должен быть принят по итогам его заседания и оформлен в виде постановления)5; необходимость выработки согласованной позиции между органами законодательной и исполнительной власти субъекта Федерации, так как в противном случае мнение субъекта Федерации будет считаться невыра-женным6; игнорирование федеральным законодателем мнения субъектов Федерации7.
Одновременно регионы как субъекты права законодательной инициативы на практике также недостаточно результативны. Проведенный статистический анализ показал, что за период работы
Государственной Думы доля принятых федеральных законов, внесенных субъектами РФ, от общего числа принятых федеральных законов составила: в I созыве — 0,81 %; во II — 4,78 %; в III — 7,73 %; в IV — 13,28 %; в V — 8,63 %; в VI — 7,46 %; в VII — 5,18 %; в VIII, еще не завершившем свою работу, — 3,48 %1.
Таким образом, доля законодательных инициатив региональных парламентов, ставших в итоге федеральными законами, начиная с работы Государственной Думы V созыва, неуклонно уменьшается с каждым новым созывом. В связи с этим необходимо усилить законодательную инициативу субъектов РФ с целью усиления их влияния на реализацию механизма разграничения полномочий.
Потенциалом для этого, на наш взгляд, обладают, в первую очередь, Совет Федерации и сенаторы. Законодательство не содержит запрета на подготовку совместных законодательных инициатив, более того, существует и соответствующая практика2. Также и Регламент Совета Федерации устанавливает специальные правила применительно к совместным законодательным инициативам Совета Федерации и законодательных органов субъектов РФ (ст. 140, 141, 143, 1431)3.
Кроме того, законодательные инициативы, внесенные сенаторами (равно как и депутатами Государственной Думы), подлежат обязательному рассмотрению Государственной думой, чего лишены законопроекты других субъектов законодательной инициативы, в том числе региональных парламентов. Сенаторы также вправе присутствовать на пленарных заседаниях Государственной Думы.
Аналогичным образом к законотворческим инициативам субъектов Федерации может привлекаться Совет Федерации в целом, соответствующие механизмы закреплены. К ним относится, в том числе, подача совместных законодательных инициатив с парламентами регионов. Совет Федерации вносит значительно меньшее количество законопроектов, чем отдельно взятые сенаторы, однако его инициативы чаще принимаются. Во II созыве Государственной Думы 27,08 % инициатив Совета Федерации были приняты, подписаны и опубликованы, в III созыве — 5,8 %, в IV — 11,11 %, в V — 19,35 %, в VI — 27,78 %, в VII — 66,7 %.
В развитии форм взаимодействия между Советом Федерации и законодательными органами субъектов РФ видится большой потенциал, который способен существенно усилить законодательные инициативы регионов, придав им больший вес при рассмотрении в Государственной Думе. Неслучайно сенатор определяется законодательством как представитель субъекта Федерации, а Совет Федерации является органом представительства региональных интересов4.
Вместе с тем на сегодняшний день сенаторы, как представляется, используют свой потенциал, связанный с продвижением региональных инициатив, не в полной мере. Так, совместных законодательных инициатив подано минимальное количество — всего 15 за все время работы Государственной Думы. При этом принято из них было шесть, что составляет 40 % — очень высокий показатель, что подтверждает эффективность совместных законодательных инициатив. По этой причине видится целесообразным увеличивать их количество.
Представляется необходимым также рассмотреть возможность закрепления определенных контрольных полномочий субъекта Федерации в отношении сенатора — представителя данного субъекта РФ. К таковым могут относиться, в частности, обязанность сенатора ежегодно отчитываться о проделанной работе перед органом государственной власти субъекта Федерации, представителем которого он является, а также возрождение института досрочного прекращения полномочий сенаторов по инициативе указанных органов.
Обозначенные меры направлены на стимулирование сенаторов к организации более тесного взаимодействия с субъектами Федерации, представителями которых они являются.
Представлять интересы субъектов Федерации на федеральном уровне могут и депутаты Государственной Думы, независимо от способа избрания — по партийным спискам или по одномандатным избирательным округам. Они также уполномочены вносить совместные законодательные инициативы с парламентами субъектов и использовать свое право выступления на заседании Государственной Думы, тем самым поддерживая принятие внесенного совместно с регионом законопроекта. Статистика подтверждает эффективность такого взаимодействия: из 147 законопроектов, внесенных совместно депутатами и законодательными органами субъектов Федерации, приняты были 50, что составляет 34 %.
Кроме того, субъект Федерации вправе отстаивать свои интересы на федеральном уровне через взаимодействие с депутатами, используя эксклюзивную форму их деятельности — взаимодействие с избирателями. Регионы могут использовать такие поездки депутатов в субъекты Федерации для организации рабочих контактов и представления региональных интересов с целью их дальнейшего отстаивания в Государственной Думе.
При этом кроме участия субъектов Федерации в федеральном законодательном процессе посредством вышеописанных форм существуют и другие способы, при помощи которых регионы могут отстаивать свои интересы на федеральном уровне. В частности, расширяется практика создания при федеральных органах государственной власти координационно-совещательных органов, в состав которых входят представители субъектов РФ.
Так, в 2000 г. Указом Президента РФ был образован Государственный совет, являющийся совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти1. Председателем Государственного совета является Президент РФ, осуществляющий руководство его деятельностью. Членами Государственного совета по должности являются в том числе высшие должностные лица субъектов РФ.
Государственный совет показал свою позитивную роль в процессе коммуникации между Президентом и главами субъектов РФ, став уникальной площадкой взаимодействия между ними напрямую. Некоторые решения Государственного совета впоследствии были положены в основу указов, распоряжений и поручений Президента РФ2. К примеру, поручения Президента РФ по итогам работы Государственного совета предусматривают, среди прочего, направление подготовленных главами субъектов РФ предложений в Правительство РФ с целью дальнейшей проработки.
В 2020 г., в рамках внесения поправок в Конституцию РФ, статус Государственного совета был закреплен на конституционном уровне, а также был принят специальный федеральный закон3. Государственный совет был наделен статусом конституционного государственного органа, целью деятельности которого является обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства (ст. 3).
К полномочиям Государственного совета относится в том числе рассмотрение по предложению Президента РФ проектов федеральных законов и указов Президента РФ, имеющих общегосударственное значение, что обеспечивает возможность для субъектов РФ представлять свои интересы в рамках данного процесса. Однако необходимо учитывать, что только Президент РФ принимает решение о необходимости рассмотрения указанных актов на данной площадке. Кроме того, учитывая совещательный статус Государственного совета, он не наделен полномочиями по принятию обязательных для органов государственной власти решений.
Также при Федеральном собрании функционирует созданный в 2012 г. Совет законодателей, являющийся «совещательным и консультативным органом», созданным в целях «согласованного законодательного обеспечения реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ»1.
Руководство деятельностью Совета законодателей осуществляют два сопредседателя — председатели палат Федерального собрания. В состав Совета законодателей по должности входят в том числе председатели законодательных органов субъектов РФ.
К полномочиям Совета законодателей относится совершенствование механизмов участия законодательных органов субъектов РФ в федеральном законодательном процессе и сотрудничества Федерального собрания и региональных парламентов, а также обсуждение иных вопросов законотворческой деятельности.
При этом, в соответствии со ст. 111 Регламента Государственной Думы, ответственный комитет «принимает во внимание» результаты рассмотрения законопроекта в Совете законодателей2. Аналогичная норма содержится в ст. 27 Регламента Совета Федерации. Следовательно, с формальной точки зрения палаты Федерального собрания никак не связаны позициями, выраженными главами законодательных органов субъектов РФ на площадке Совета законодателей.
По итогам рассмотрения в Совете законодателей в Государственную Думу было внесено 732 законопроекта, из них рассмотрение 690 уже завершено и 42 рассматриваются в настоящее время. Из них приняты, подписаны и опубликованы 112 законопроектов, или 16,2 % от общего числа. Всего в Совет законодателей было подано 2690 проектов законодательных инициатив, подготовленных субъектами Федерации3.
Субъекты Федерации также вправе учреждать свои представительства при Президенте РФ или Правительстве РФ. Первоначально свои представительства при Президенте РФ имели только республики, остальные субъекты Федерации создавали представительства при Правительстве РФ. По состоянию на ноябрь 2023 г. функционируют 80 представительств субъектов Федерации при Президенте РФ и/или Правительстве РФ.
Все перечисленные органы имеют статус консультативных, следовательно, решения, принятые по итогам их работы, не носят обязательного характера для основных субъектов федерального законодательного процесса. Вопрос о том, будет ли учтена позиция субъектов Федерации, зависит лишь от решения руководителей данных органов, которыми являются по должности руководители соответствующих федеральных государственных органов.
Модель разграничения полномочий и предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами Федерации с момента принятия Конституции РФ трансформировалась. Появился новый правовой инструмент разграничения полномочий и предметов ведения, прямо не предусмотренный Конституцией РФ: федеральный закон. Данный регулятор на сегодняшний день играет ведущую роль в механизме разграничения полномочий и предметов ведения.
Федеральный законодатель таким образом сконцентрировал решение вопросов по разграничению полномочий по предметам совместного ведения на федеральном уровне, напрямую связав данный механизм с федеральным законодательным процессом. В связи с этим роль субъектов Федерации в механизме разграничения напрямую связана со степенью их участия в федеральном законодательном процессе.
При всем многообразии форм участия регионов в законотворческом процессе большая их часть недостаточно эффективна, о чем говорит в первую очередь низкий процент успешных законодательных инициатив субъектов Федерации. Как следствие, субъекты Федерации лишены действенных средств влияния на разграничение полномочий по предметам совместного ведения, что позволяет федеральному центру осуществлять разграничение, игнорируя позиции регионов1. Участие же субъектов Федерации в различных законосовещательных органах не может в полной мере компенсировать их ограниченную роль в законодательном процессе на федеральном уровне.
Для усиления влияния субъектов Федерации на федеральный законодательный процесс и, как следствие, на механизм разграничения полномочий предлагается рассмотреть следующие меры:
-
– совместные законодательные инициативы законодательных органов субъектов Федерации и сенаторов РФ, Совета Федерации, депутатов Государственной Думы;
-
– более активное использование существующих форм взаимодействия субъектов Федерации и членов палат Федерального собрания;
-
– стимулирование участия субъектов Федерации в подготовке отзывов на направляемые ими законопроекты по предметам совместного ведения.
На наш взгляд, приведенные аргументы, в том числе объективные статистические данные, показывают то, что сформулированные предложения имеют позитивную перспективу, ориентируют на дополнительные правовые возможности субъектов Федерации в отношениях с федеральным центром. При этом эффективность предложенных мер во многом зависит от степени активности самих субъектов Федерации.
Усиление роли субъектов Федерации и степени учета их региональных интересов в законодательном процессе должно сводиться не столько к увеличению форм влияния субъектов Федерации, сколько к полноценной реализации существующих в законодательстве форм учета интересов субъектов Федерации, а также к реальным процедурам и четким механизмам их совершенствования на практике2.
Важность данного вопроса трудно переоценить, так как именно от степени продуманности и практической эффективности распределения полномочий зависят реальные возможности субъектов Федерации по осуществлению самостоятельной и эффективной политики, в том числе экономической3. В этой связи одной из задач государственной власти видится поиск баланса между постоянным стремлением федерального центра получить как можно больше полномочий, с одной стороны, и стремлением субъектов Федерации нарастить свою самостоятельность — с другой.
Список литературы Роль субъектов Российской Федерации в разграничении полномочий по предметам совместного ведения
- Авакьян с. А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие: в 2 т. 6-е изд., перераб. и доп. / с. А. Авакьян. М.: Норма; ИНФРА-М, 2020.
- Авдеев Д. А. Роль и назначение Совета Федерации в системе публичной власти / Д. А. Авдеев // Конституционное и муниципальное право. 2022. № 8. с. 41-46. EDN: FZAPLQ
- Андриченко Л. В., Чертков А. Н. Взаимодействие Государственной думы и законодательных органов субъектов Российской Федерации / Л. В. Андриченко, А. Н. Чертков // Журнал российского права. 2009. № 2 (146). с. 3-10. EDN: KZVKIP
- Безруков А. В. Модернизация форм взаимодействия федерального и региональных законодателей / А. В. Безруков // Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 1. С. 18-21. EDN: OEFVKF
- Гранкин И. В. Роль Конституции Российской Федерации и федерального законодательства в определении компетенции законодательных органов субъектов Российской Федерации / И. В. Гранкин // Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 10. С. 3-9. EDN: ODVLPF
- Договор как общеправовая ценность / В. Р. Авхадеев, В. С. Асташова, Л. В. Андриченко [и др.]. М.: СТАТУТ, 2018. 381 с.
- Кондрашев А. А. Эволюция российского федерализма в ходе законодательных новаций 2000-2008 годов: доктринальный анализ и перспективы развития / А. А. Кондрашев // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 4 (77). С. 16-35. EDN: NPKCCH
- Михеева Т. Н. Государственный совет Российской Федерации: история и современность / Т. Н. Михеева // Государственная власть и местное самоуправление. 2021. № 4. С. 51-55. EDN: IMDUXS
- Нарутто С. В. Единство и многообразие российского федерализма / С. В. Нарутто // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 9 (82). С. 56-67. EDN: ZIOHOL. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2017.82.9.056-067
- Симонян Г. Р. Механизм обеспечения интересов субъектов Российской Федерации в деятельности федеральных органов государственной власти / Г. Р. Симонян // Журнал российского права. 2006. № 3 (111). С. 44-52. EDN: OOUACJ
- Умнова И. А. Совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов как предмет конституционного регулирования / И. А. Умнова // Журнал российского права. 1999. № 11. С. 22-35.
- Чаннов С. Е. Разграничение полномочий по предметам совместного ведения в контексте бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации / С. Е. Чаннов // Вестник Поволжского института управления. 2020. Т. 20, № 5. С. 12-20. EDN: ZNTNCB. https://doi.org/10.22394/1682-2358-2020-5-12-20
- Чаплинский А. В., Меркуленко А. А. Субконституционная модель распределения компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами: централизация vs автономия регионов / А. В. Чаплинский, А. А. Меркуленко // Журнал российского права. 2022. Т. 26, № 1. С. 142-157. EDN: CJVNNU. https://doi.org/10.12737/jrl.2022.011
- Чертков А. Н. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации»: от 17 дек. 2001 г. № 6-ФЗК (в ред. от 31 окт. 2005 г.) (постатейный) / А. Н. Чертков. М.: Юстицинформ, 2006. 127 с. EDN: QWYUQB
- Чиркин В. Е. Государствоведение: учебник. 2-е изд., испр. и доп. / В. Е. Чиркин. М.: Юристъ, 2000. 384 с.
- Шахрай С. М. 25 лет Конституции Российской Федерации: реализация и развитие конституционных моделей / С. М. Шахрай // Lex Russica (Русский закон). 2018. № 11 (144). С. 9-15. EDN: YPCIUH. https://doi.org/10.17803/1729-5920.2018.144.11.009-015