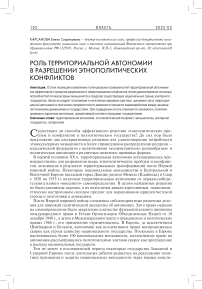Роль территориальной автономии в разрешении этнополитических конфликтов
Автор: Карсанова Елена Созрикоевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению потенциальных возможностей территориальной автономии как эффективного средства разрешения и предотвращения конфликтов путем удовлетворения основных потребностей этнокультурных меньшинств в пределах существующих национальных границ унитарного государства. Автор исследует позитивные и негативные мировые практики, оценивает роль территориальной автономии в смягчении сепаратистского давления в процессе взаимодействия между националистическими движениями и государством. При подведении итогов отмечается значимость политико-правового характера автономии, предлагаемой соответствующими государствами.
Территориальная автономия, этнополитический конфликт, меньшинства, унитарное государство, сепаратизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170198240
IDR: 170198240 | DOI: 10.31171/vlast.v31i2.9546
Текст научной статьи Роль территориальной автономии в разрешении этнополитических конфликтов
С уществуют ли способы эффективного решения этнополитических проблем и конфликтов в полиэтническом государстве? До сих пор было предложено два альтернативных решения для удовлетворения потребности этнокультурных меньшинств в более справедливом распределении ресурсов – классический федерализм с включениями «асимметричного разнообразия» и политическая автономия в различных политико-правовых формах.
В первой половине XX в. территориальная автономия устанавливалась преимущественно для разрешения веера этнополитических проблем и конфликтов, возникших в результате территориальных трансформаций после Первой мировой войны. Некоторые национальные меньшинства в Центральной и Восточной Европе (вольный город Данциг, регион Мемель (Клайпеда) и Саар с 1920 по 1935 г.) получили территориальную автономию от держав-победительниц взамен «внешнего» самоопределения. В целом найденные решения не были адекватны задачам, а их недостатки давали агрессивным, националистически настроенным соседям предлог для наращивания ирредентистской угрозы и подготовки к аннексиям.
После Второй мировой войны сложились неблагоприятные рамочные условия для широкой политической дискуссии об автономии. Хотя право народов на самоопределение было закреплено в качестве фундаментального принципа международного права в Уставе Организации Объединенных Наций от 10 декабря 1948 г., а затем в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г., его применение ограничивалось. В Европе, за исключением Швейцарии и Бельгии, автономия как коллективное право воспринималась скорее как угроза единству национального государства. Поскольку в Европе насчитывалось более 100 национальных меньшинств, коллективное право на автономию рассматривалось политическими элитами скорее как приглашение к распаду национальных государств.
Тем не менее в послевоенный период некоторые государства Западной и Северной Европы после длительных дебатов решились на реализацию поли- тики признания и защиты национальных меньшинств через нормы консти- туционного и государственного права. Помимо старейшей территориальной автономии в Европе Аландских островов в Финляндии, были созданы особые автономии в Италии и Дании. Бельгия показала пример того, как ранее централизованное государство может постепенно трансформироваться в федеративное государство, предоставив территориальную и культурную автономию трем историческим языковым сообществам Бельгии – фламандскому (голландскому), валлонскому (французскому) и немецкому меньшинству на восточной границе с Германией. Испанская Конституция 1978 г. также закрепила право региональных сообществ на автономию, что в значительной степени нивелировало сепаратистские конфликты в Каталонии и Стране Басков.
Единственным опытом территориальной автономии в Африке сразу после деколонизации было соглашение между Эфиопией и Эритреей на основе решения Генеральной Ассамблеи ООН, действовавшее с 1952 по 1962 г. Правда, эта автономия претерпела неудачу, что привело к трем десятилетиям вооруженного сопротивления Эритреи. Автономия, предоставленная Южному Судану правительством Судана в 1972 г., по факту осталась декларацией и в 1983 г. спровоцировала кровопролитие на два десятилетия. В то же время партнерство между Танганьикой и Занзибаром, основанное в 1964 г., продолжается и по сей день, что является доказательством того, что автономия может работать и в Африке.
Опыт территориальной автономии в Азии противоречив. Автономия Южного Курдистана, введенная Ираком в 1970 г., была разрушена режимом Саддама Хусейна всего 4 года спустя. В Бангладеш автономия, обещанная коренным народам горных районов Читтагонга, оказалась иллюзией. В Индонезии результатом тридцатилетней войны населения Ачеха за независимость стала автономизация региона в 2005 г. с предоставлением местным властям экономических и политических преференций. Регион Манданао, занимающий южную часть филиппинского архипелага, получил права автономии в 1980-х гг. в обмен на отказ от сепаратистских требований.
В то время как колониальные державы в Латинской Америке приступили к стратегии смешения европейских культур и культур коренных народов в процессе метизации, который был далеко не мирным, автохтонные народы Северной Америки были в значительной степени истреблены или вытеснены в резервации в самые негостеприимные районы. Примером соблюдения основных прав коренных народов может являться получение статуса территориальной автономии канадским Нунавутом, Атлантическим регионом Никарагуа и Комарка Куна-Яла в Панаме.
На Европейском континенте появление автономий также часто было непростым и противоречивым процессом. Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсу пришлось ждать до 1998 г., чтобы получить частичную политическую самостоятельность. Во Франции, настаивающей на существовании исключительно одной нации, упорно отвергаются этнокультурные требования национальных меньшинств (корсиканцев, бретонцев, басков, эльзасцев). Италия, созданная как региональное государство в 1948 г., основала пять регионов с особым статусом для национальных меньшинств (Валле-д'Аоста, Южный Тироль, Сардиния и Фриули-Венеция-Джулия) по этническим и историческим причинам. И хотя кейс Южного Тироля на сегодняшний день считается одним из самых успешных, часть регионов Италии продолжают настаивать на расширении или обретении особого территориального статуса.
Но, как уже отмечалось, некоторые опыты территориальной автономии потерпели неудачу. Кипр и Косово представляют собой примеры глубоко разрушенных обществ с жесткой дискриминацией и преследованием одной группы другой: албанцев в Косово и турок на Кипре. На Кипре даже не предпринимались попытки эффективного регулирования автономии, в отличие от Косово, где в 1974 г. было предпринято радикальное обновление автономии, действовавшей с 1948 г., что поставило почти 90-процентное албанское большинство населения почти в равное положение с сербами [Benedikter 2012: 31].
Следует отметить, что в Косово потерпела неудачу не автономия как таковая, а националистическая политика отрицания прав этнических меньшинств. В результате весь этнический баланс социалистического государства рухнул, что привело к войнам в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 гг. и в Косово в 1998– 1999 гг. Результат известен: Черногория отделилась от Сербии в 2006 г., Косово стало независимым в 2008 г., а провинция Воеводина восстановила свою автономию в 2009 г. В Грузии отмена автономии также спровоцировала сепаратистские настроения двух регионов – Абхазии и Южной Осетии.
Если ретроспективно посмотреть на появление ныне функционирующих территориальных автономий, то можно выделить по крайней мере четыре обстоятельства, благоприятствовавшие ее установлению [Benedikter 2012: 32].
Во-первых, автономия возникла, когда само государство переживало потрясения: в Испании после окончания периода Франко в 1975–1978 гг.; на Филиппинах после падения режим Маркоса в 1985 г.; в Молдове и Украине после распада Советского Союза в 1991 г.; в Италии и Португалии в 1948 и 1974 гг., когда диктаторские и централистские системы были заменены демократическими и регионалистскими структурами. То же самое произошло с атлантическими районами Никарагуа после свержения режима Сомосы в 1979 г. (но только после ожесточенных конфликтов с центральным правительством).
Вторым обстоятельством является предоставление автономии в процессе деколонизации, когда полной независимости население либо не желало, либо оказывалось еще не готовым к полноценной государственности. Это произошло в Гренландии, Нунавуте, Комарке Куна-Яла, Нидерландских Антильских островах, Новой Каледонии и Пуэрто-Рико.
К третьей группе следует отнести автономии, которые появились в ходе переговорного процесса между центральным правительством и заинтересованным регионом в сочетании с давлением со стороны «государств-покровителей» (Южный Тироль, Аландские острова).
Наконец, в-четвертых, автономия предоставлялась только после жестких споров, которые часто перерастали в открытые вооруженные конфликты: военный конфликт в индонезийском Ачехе, который длился с 1976 по 2005 г., войны в Южном Судане с 1983 по 2002 г. Филиппинские мусульмане – моро добивались автономии и независимости Минданао с 1969 г. (в 2018 г. принят закон «Об автономном регионе Бангсаморо). «Конфронтационный» и даже «радикальный» активизм [Парма 2022: 54] этнических меньшинств, как известно, не обошли и развитые страны Европейского континента.
Краткий обзор представленного исторического тезауруса этнополитических взаимодействий показывает, что территориальная автономия была создана в первую очередь для урегулирования конфликтов между центральными правительствами и этнокультурными меньшинствами. Но наряду с этой главной причиной появлению автономий способствовали еще как минимум две общие тенденции, одна из которых носила политический характер, а другая – более социальный характер. Демократизация многих стран мира в 1970-х и в
1990-х гг. вызвала растущее давление со стороны граждан в пользу политического представительства и участия в принятии жизнеобеспечивающих решений, а это, в свою очередь, привело к усилению регионального и местного участия в политике. Желание территориальных сообществ государства больше контролировать местный социально-политический процесс стало распространенным явлением в Европе [Пырма 2018]. Продвижение демократии на более низкие уровни управления стало рассматриваться обществом как противовес опасности возвращения авторитарных тенденций в централизованном государстве.
В дополнение к растущему осознанию этнической и культурной идентичности присоединяется консолидированная потребность в «региональном доме» в качестве компенсации за растворение границ во многих сферах социальнополитической жизни. Привлекательность централизованных крупномасштабных коллективных организаций, таких как национальные партии и профсоюзы, снижается, в то время как местные и региональные группы поддержки набирают силу. Логика управления, выстроенная по принципу жесткой вертикали правления, уходит в прошлое [Волгин 2018: 128], а люди все меньше ощущают себя частью большой централизованной организации и вместо этого отождествляют себя с местными сообществами. Это привело к тенденции, которую Майкл Китинг назвал «ретерриторизацией» политики [Keating 1999: 75]. Фокус политической ответственности этнокультурных сообществ смещается с национального на местный уровень, хотя значение наднационального уровня, как это ни парадоксально, возрастает.
В отношении международно-правовой базы коллективных прав национальных меньшинств и малочисленных народов, в т.ч. коренных народов, после принятия Декларации ООН о правах меньшинств в декабре 1992 г. был достигнут гораздо меньший прогресс, чем надеялись заинтересованные лица. Хотя в Европе некоторые документы по защите меньшинств (особенно Рамочная конвенция о правах национальных меньшинств и Европейская языковая хартия) привели к широкому признанию национальных меньшинств, во многих странах – членах Совета Европы по-прежнему существуют серьезные опасения по поводу автономии в какой бы то ни было форме. Широко распространен страх гипотетической спирали – «этнокультурная автономия, самоуправление, отделение».
Если рассматривать территориальную автономию (или даже федеративное устройство) как способ решения этнополитических проблем, то основные опасения, с которыми сталкиваются политические элиты полиэтнических государств, заключаются в следующем [Lapidoth 1997: 205]:
– поддержка со стороны общего электората и наиболее националистически настроенной части электората в масштабе региона может быть потеряна, если ответственные политики предоставят «слишком большую» автономию;
– предоставление автономии может стать первым шагом к отделению региона: национальные меньшинства / малочисленные народы могут использовать новые полномочия для возобновления сепаратистских движений;
– предоставленная степень автономии может быть поставлена под сомнение меньшинством, что повышает вероятность нового витка этнополитической напряженности;
– создание территориальной автономии может спровоцировать требования автономии со стороны других регионов / национальных меньшинств. При так называемом эффекте домино национальное единство и даже территориальная целостность государства окажутся под угрозой;
– создание региональной автономии может создать новые меньшинства в пределах автономного региона, поскольку меньшие группы и члены государственной титульной нации также потребуют прав национальных меньшинств;
– потеря контроля над природными ресурсами и финансовыми доходами государства может серьезно ослабить власть центрального правительства, особенно если претендующий на автономию регион ресурсно благополучен [Benedikter 2012: 57].
Защитники унитарного государства критикуют автономию за то, что она подрывает государственное единство и укрепляет коллективную этнокультурную идентичность меньшинств, что рано или поздно приводит к требованиям отделения. На первый план выходят тщательно культивируемые идеологические представления о «священном суверенитете» и единстве отечества, но за ними стоят жесткие интересы в контроле над территорией или ресурсами. Если большинство, представленное сильными политическими группами, рассматривает государство как структуру, предназначенную в первую очередь для укрепления и расширения собственной привилегированности, то разделение власти с группами меньшинств и перераспределение ресурсов в результате автономии или асимметричного федерализма обречено на провал. Такие сюжеты можно обнаружить в политической реальности Шри-Ланки, Турции, Бирмы. Здесь компромиссы в отношении автономии особенно трудны, тем более что необходим разрыв с традиционной, широко укоренившейся государственной идеологией и определенными конституционными принципами со стороны властных элит государства.
Страх автономии как первого шага к отделению особенно заметен тогда, когда меньшинства живут на территории своих предков в непосредственной близости от державы-покровительницы, например в Кашмире и Пакистане, Тамил-Иламе и Тамил-Наду, Турецком Курдистане и Раки-Курдистане. Двусторонние государственные соглашения могли бы облегчить этот конфликт путем исключения возможности одностороннего изменения границ.
Автономия может поставить под вопрос административную эффективность из-за сложности и дублирования административных институтов. Действительно, автономия неизбежно ведет к увеличению управленческих издержек (хотя на самом деле эффективность есть, как предполагает теория децентрализации). Автономия может затронуть и экономическую сферу, особенно при введении региональных налогов, преференций для местного капитала и ограничений на мобильность рабочей силы [Benedikter 2012: 76]. Автономия может ухудшить задачи государства по перераспределению и, таким образом, поставить под сомнение легитимность самой автономии. Однако при таком рассмотрении не следует забывать об основной цели автономии: главным критерием является не экономическая или административная эффективность государства, а уважение индивидуальных и коллективных прав человека и этнокультурных меньшинств.
Другим аргументом, используемым центральными государствами против автономии, является «принцип домино»: как только автономия будет введена для региона или меньшинства, бесконечная серия требований автономии может прокатиться по всей территории государства. Этому аргументу в первую очередь противостоят движения за самоопределение в многонациональных государствах, таких как Индия, Нигерия, Индонезия, Бирма/ Мьянма и др. Следует подчеркнуть, что в каждом конфликте меньшинств юридическая, политическая и моральная легитимность требования автономии должны сопоставляться с легитимностью центральной власти, посред- ством чего суверенитет и границы государства, как правило, не подвергаются сомнению.
Распространенное возражение связано также с потенциальной возможностью создания новых этнических меньшинств в пределах автономных регионов, которые могут оказаться в ситуации социальной или правовой дискриминации. Этот тип критики исходит из точки зрения прав человека, которая, признавая групповые права, подчеркивает риск дискриминации в отношении лиц в том же регионе, которые не принадлежат к этим группам. Различные формы совместного принятия решений в рамках автономии могут снизить этот риск. В итоге свободный политический процесс внутри автономного региона и внутри самого меньшинства решает, как восстановить желаемый баланс. Политический опыт Южного Тироля свидетельствует в пользу непротиворечивости данного утверждения.
Противники автономных решений нередко подчеркивают, что общий послужной список автономии в ее усилиях по разрешению этнических конфликтов не совсем убедителен. Действительно, есть ряд примеров, когда автономия снизила напряженность, и другие, когда автономия потерпела неудачу. Но, возможно, в этих случаях следует поставить под сомнение не автономию как таковую, а политическую модель конкретной автономии и объективные условия, приведшие к ее провалу: были ли односторонние действия центрального правительства причиной неудачи? Было ли это из-за отсутствия подлинно демократической и легитимной среды? Или изменение международного политического порядка привело к провалу? Или же имела место простая заинтересованность центральной власти в восстановлении полного контроля над территорией и населением автономной области? Только тогда, когда будут приняты во внимание все причинные факторы провала автономии, можно извлечь из них правильные выводы для предотвращения потенциально возможных конфликтов.
С одной стороны, сложно не согласиться с критиками автономии [Varennes 2002: 55] в том, что «концепция общества равноправных граждан гражданского общества плохо совместима с выделением конкретных групп по национальному признаку» [Heintze 2012]. Но, с другой стороны, есть эмпирические данные о том, что вопрос об отделении возникал в различных регионах как раз тогда, когда автономия не уважалась или не осуществлялась (Эритрея, Южный Судан, Ачех) либо была отвергнута или упразднена центральной властью (Абхазия, Южная Осетия, Иракский Курдистан, Шри-Ланка, Косово).
Каждое государство самостоятельно разрабатывает ритмы политического поведения, способы формирования единой ценностной платформы [Расторгуев 2022: 126] и национально-этнического сознания. У современных государств всегда есть выбор: согласовать особое решение об автономии с конкретным меньшинством / региональным сообществом или сохранить централизованную структуру власти, что, в свою очередь, в большинстве случаев обеспечивает перманентный конфликт. Турция, Франция, Румыния, Бирма, Иран, Пакистан – все эти государства сталкиваются с весомыми требованиями автономии, которые подавляются частью силовыми, частью политическими средствами.
Именно автономия может предложить золотую середину между стремлением этнического меньшинства к независимости и сохранением территориальной целостности национального государства. Однако, хотя автономия и предлагает актуальные «работающие» решения, контраст результатов автономизации во всем мире требует углубленного изучения большего числа случаев, чтобы проверить причинно-следственную связь между силой сепаратизма и внутренними характеристиками автономии, предлагаемой соответствующим государством.
Список литературы Роль территориальной автономии в разрешении этнополитических конфликтов
- Волгин О.С. 2018. Еще раз о понятии "гражданское общество": философский аспект. - Философские науки. № 10. С. 114-129.
- Пырма Р.В. 2018. Политические сценарии референдумов о независимости регионов государств Евросоюза - Гражданин. Выборы. Власть. № 4. С. 62-100.
- Парма Р.В. 2022. Современная трактовка политического радикализма в гражданской активности. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 12. № 2. С. 53-60.
- Расторгуев С.В. 2022. Психология в политике имеет значение. - Власть. Т. 30. № 1. С. 123-127.
- Benedikter T. 2012. Moderne Autonomiesysteme. Bozen. 295 p.
- Heintze H. J. 2012. Evolution of Autonomy and Federalism. - One Country, Two Systems, Three Legal Orders - Perspektives of Evolution. Springer Berlin Heidelberg. P. 389-407.
- Keating M. 1999. Asymmetrical Government: Multinational States in an Integrating Europe. - PUBLIUS: The Journal of Federalism. Vol. 29. Is. 1. P. 71-86.
- Lapidoth R. 1997. Autonomy - Flexible Solutions for Ethnic Conflicts. Washington: United States Institute of Peace Press. xiv+276 p.
- Varennes F. 2002. Lessons in Conflict Prevention: A Comparative Examination of the Content of Peace Accords. - The Global Review of Ethnopolitics. Vol. 1. No. 3. P. 53-59.