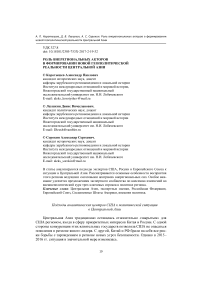Роль внерегиональных акторов в формировании новой геополитической реальности Центральной Азии
Автор: Коротышев Александр Павлович, Леушкин Денис Вячеславович, Сорокин Александр Сергеевич
Рубрика: Научные статьи
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются подходы экспертов США, России и Европейского Союза к ситуации в Центральной Азии. Рассматриваются основные особенности восприятия этого региона ведущими «мозговыми центрами» внерегиональных сил. Особое внимание уделяется предложениям экспертного сообщества по внесению изменений во внешнеполитический курс трех ключевых игроков в политике региона.
Центральная азия, экспертные оценки, российская федерация, европейский союз, соединенные штаты америки, внешняя политика
Короткий адрес: https://sciup.org/148317418
IDR: 148317418 | УДК: 327.8 | DOI: 10.18101/2305-753X-2017-2-19-32
Текст научной статьи Роль внерегиональных акторов в формировании новой геополитической реальности Центральной Азии
Подходы аналитических центров США к политической ситуации в Центральной Азии
Центральная Азия традиционно оставалась относительно «закрытым» для США регионом, входя в сферу приоритетных интересов Китая и России. С одной стороны конкуренция этих влиятельных государств позволяла США не опасаться появления в регионе явного лидера. С другой, Китай и РФ брали на себя все риски борьбы с зарождением в регионе новых угроз безопасности. Однако в 2015– 2016 гг. ситуация в значительной мере изменилась.
В экспертной среде США 2015 г. ознаменовался всплеском интереса к Центральной Азии.
Особенно интересен цикл аналитических докладов Центра стратегических и международных исследований (CSIS), посвященный перспективам отдельных государств региона и их возможной роли в американских коммуникационных проектах: «Центральная Азия в ре-коммуникации Евразии и Кыргызстана»[1], «Центральная Азия в ре-коммуникации Евразии и Казахстана»[2], «Центральная Азия в ре-коммуникации Евразии и Таджикистана» и др. Основной мыслью данного цикла является тезис о необходимости пересмотра подхода США к государствам Центральной Азии. Новым приоритетом объявляется их «вовлечение в мировую торговую систему», «преодолевая трения», которые могут возникнуть как внутри региона, так и между глобальными игроками [3].
Центральное место в упомянутом цикле занимает доклад «Центральная Азия в ре-коммуникации Евразии: интересы и рекомендации США» [4]. Столь часто употребляемый экспертами термин «ре-коммуникация» (reconnecting) здесь получает завершающее оформление в виде рекомендаций лицам, принимающим решения в США. А именно:
-
1. Создать в структуре Совета Национальной Безопасности США отдел по проблемам Евразии.
-
2. Нарастить объем торговли и инвестиционных проектов США в государствах Центральной Азии.
-
3. Попытаться, совместно с Китаем, выработать общие подходы к концепции «нового шелкового пути» и начать ее реализацию.
-
4. Нарастить активность политических визитов в Центральную Азию, на самом высоком уровне.
-
5. Бороться с влиянием Китая и РФ в регионе, предлагая местным элитам более выгодные проекты.
-
6. Содействовать развитию в регионе интеграционных проектов с участием США.
-
7. Развивать сотрудничество в сфере образования, науки, бизнес-контактов, тем самым устанавливая тесные связи с элитой государств региона [4].
Заметно, что Центральная Азия должна стать местом развертывания новых экономических и коммуникационных проектов, зоной торгово-экономической экспансии США.
Отдельным направлением в разработках американских экспертов является пересмотр приоритетов американо-китайских отношений. Весь спектр исследовательских усилий в данном направлении отражает статья с характерным названием “Recalibrating on China” («Переключаясь на Китай») [5]. Ее основные тезисы заключаются в следующем:
-
– США необходимо значительно расширить двусторонние связи с Китаем в экономической сфере;
-
– следует попытаться оказывать влияние на «траекторию экономических реформ в Китае» [5] с тем, чтобы сделать бизнес-среду страны более благоприятной для деятельности американских фирм;
-
– многие государства Азии ориентируются на Китай как на источник экономического роста, однако США пока сохраняют статус главного гаранта безопас-
- ности в регионе, а также остаются образцом политического устройства. Нужно укреплять политические связи с государствами региона, ограничивая попытки Китая претендовать на региональное лидерство [5].
В фокусе внимания экспертов Центра также традиционно находятся развитие китайского военно-промышленного комплекса, эволюция стратегии и тактики использования вооруженных сил Китая [6]. Устойчивый интерес вызывает и российско-китайское экономическое сотрудничество [7].
Отметим, что внешняя политика Китая является объектом пристального внимания и других аналитических центров. Эксперты СТРАТФОР утверждают, что ее основным вектором является плавное проникновение в Центральную Азию, причем за экономической экспансией неизбежно последует военнополитическая [8].
Проблема осмысления аналитиками новой роли США в Центральной Азии тесно связана с их попытками разработать эффективную внешнеполитическую стратегию в отношении БРИКС.
В американской экспертной среде достаточно распространены идеи о возможности (и необходимости) ослабить связи внутри БРИКС. В названии одного из докладов содержится весьма неоднозначный термин «демократический БРИКС» [9]. С точки зрения экспертов, «three democracies in the group – Brazil, India, and South Africa – share more with the West in terms of political systems and values than they do with China and Russia» («три демократии в этой группе – Бразилия, Индия и ЮАР – в области политического устройства и гражданских ценностей имеют больше общего с Западом, чем с Китаем и Россией») [9]. Что же касается экономики, то, по мнению аналитиков, перечисленные страны взаимодействуют с Китаем и Россией потому, что это предоставляет им взаимовыгодный, гибкий и не слишком обязывающий механизм выхода на мировые рынки. Соответственно, основной задачей США эксперты видят создание такой системы отношений с Бразилией, Индией и ЮАР, которая предложит им более выгодные условия. Предполагается, что эти государства легко откажутся от взаимодействия с «авторитарными странами» в пользу сотрудничества с США.
Аналитические центры США достаточно внимательно отслеживают экономические и внутриполитические процессы в странах БРИКС. Примером может служить ряд аналитических разработок CSIS: “Brazil’s Presidential Elections. Expectations for Foreign Policy” («Президентские выборы в Бразилии: ожидания во внешней политике») [10], “India in 2014: Elections and Economy” («Индия в 2014: выборы и экономика») [11], “Launching a New Chapter in U.S.-Africa Relations. Deeping the Business Relationship” («Открывая новую главу в американоафриканских отношениях. Расширение сотрудничества в сфере бизнеса») [12]. Представляется, что это имеет ту же самую цель, т.е. предложить членам БРИКС более выгодные условия экономического сотрудничества, чем они могли бы иметь внутри объединения.
Подобная стратегия предлагается и в отношении соседей России в Центральной Азии. По мнению аналитиков CSIS, в правящих элитах постсоветских государств очень сильны страхи, как перед «оранжевой революцией», так и перед имперскими амбициями России. Эти страхи следует использовать для под- держки антироссийских настроений внутри государств постсоветского пространства [13].
Что же касается собственно политики РФ в Центральной Азии, то американские эксперты усматривают в ней стремление восстановить традиционное политическое влияние. При этом Россия, по их мнению, будет отдавать предпочтение военно-политическим рычагам и сотрудничеству в сфере безопасности. США, в свою очередь, должны предложить государствам Центральной Азии новые экономические проекты [14]. Считается, что подобная стратегия может быть особенно удачной на фоне падения мировых цен углеводороды. С одной стороны, это снижает экономические возможности России, с другой, создает дополнительные стимулы для сотрудничества государств региона с США [15].
В целом, новая американская стратегия в Центральной Азии подчиняется общей логике современной внешней политики США, в которой центральным приоритетом является сохранение своего политического лидерства. В среде американской элиты, по всей видимости, сильны опасения потери мирового экономического лидерства. Их вполне ясно выражает цитата из доклада CSIS, посвященного американской экономической политике: «Конкуренты и стратегические союзники США, такие как Бразилия, Китай, Европейский Союз, Япония, Индия и Россия, стремятся к наращиванию экономической мощи и конвертации ее в ведущий инструмент мировой политики» [16].
Авторы данного документа констатируют, что масштабные институциональные проблемы и несовершенство механизмов принятия решений снижают эффективность ответных мер США, ослабляют их позиции в мировой экономической конкуренции. Отметим, что необходимость пересмотра подходов США к внешнеэкономической деятельности и торговым отношениям неоднократно подчеркивалась экспертами аналитических центров. В качестве примера можно привести доклады CSIS “Delivering the Goods: Making the Most of North America’s Evolving Oil Infrastructure” («Доставка товаров: максимально эффективное использование развивающейся нефтяной инфраструктуры Северной Америки») [17], “Opportunities in Strengthening Trade Assistance” («Возможности в расширении торгового взаимодействия») [18], “New Energy, New Geopolitics. Background Report 2: Geopolitical and National Security Impacts” («Новая энергия, новая геополитика. Справочный доклад 2: последствия для геополитики и национальной безопасности») [19]. Некоторые из них, такие как доклад “Leveraging Global Value Chains for a Federated Approach to Defense” («Использование общемировых торговых цепочек для укрепления безопасности в многостороннем формате») [20], напрямую увязывают архитектуру внешнеэкономических связей США с национальной безопасностью государства.
Анализ рекомендаций, предлагаемых в упомянутых разработках, выходит за рамки настоящей статьи, однако важен сам факт: США вынуждены перестраивать свою внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность под давлением других государств.
Российские аналитические центры о ситуации в Центральной Азии
Для российских экспертов по внешней политике и специалистов по Центральной Азии характерно заметное расхождение с официальной позицией российского МИД по вопросу роли и перспектив России в этом регионе. Если официальная информация внешнеполитического ведомства констатирует прочные политические связи со странами региона и позитивную роль России в решении региональных проблем, то аналитические доклады и научные работы по Центральной Азии подчеркивают ситуативность российской политики и отсутствие долгосрочного планирования.
В частности, официальная информация МИД России об отношениях со странами Центральной Азии подчеркивает лидерство российских корпораций в инвестициях в их экономику, в том числе 47% – в ТЭК, 22% – цветную металлургию, 15% – телекоммуникации [21]. В то же время, подготовленный в 2013 году, до начала экономического кризиса, экспертами Российского совета по международным делам и Института Востоковедения РАН аналитический доклад «интересы России в Центральной Азии: содержание, перспективы, ограничители» характеризует деятельность российского бизнеса по инвестированию в регион как «единичную» [22]. При этом указывается, что такая ситуация стала следствием не только объективных, но и субъективных причин [22].
Необходимо также отметить, что по некоторым вопросам позиции официальных лиц и экспертного сообщества в целом схожи, расходясь лишь в деталях. Так, похожим образом российским МИД и авторы аналитических разработок воспринимают проблему трудовой миграции. Если оставить «за скобками» внут-рироссийские проблемы связанные с нелегальной формой миграции, то комментарии чиновников и специалистов будут иметь между собой много общего. Так, МИД акцентирует внимание на том, что Россия принимает излишек трудовых ресурсов центральноазиатского региона, снижая тем самым там социальную напряженность [21]. Аналитики российских научных центров также признают важнейшую роль трудовой миграции для экономик стран Центральной Азии, отмечая, что их денежные переводы составляют в отдельные годы до 47% ВВП этих стран. Такая ситуация крепко привязывает экономики региона к России с соответствующими политическими последствиями [22].
Общие черты между позицией внешнеполитического ведомства и экспертного сообщества можно найти также в очень сдержанном отношении к такой традиционной многосторонней структуре взаимодействия России и ее партнеров как Содружество Независимых Государств. Так, на официальной странице МИД об отношениях со странами Центральной Азии СНГ упоминается наряду с другими интеграционными объединениями (ШОС, ОДКБ, ЕАЭС) и ей не отводится никакой особой роли. Эксперты ставят вопрос еще шире, рассматривая в целом многосторонний и двусторонний подход к укреплению российских позиций как конкурирующие между собой. Особенно актуально это противопоставление для экономического взаимодействия с очень различающимися по масштабам и структуре экономик странами [22].
Важно отметить и еще одну особенность российской экспертизы процессов в Центральной Азии, обозначившуюся в последние годы. Она связана с отходом от одностороннего восприятия диверсификации экономических связей стран региона как покушения на российские интересы. Такая позиция до сих пор встречается в публицистике, однако научные разработки подчеркивают тот факт, что расширение экономического и торгового партнерства по всем векторам - нормальное явление современного мира для всех стран и государства данного региона не являются исключением [22].
Такое изменение можно признать существенным поворотом в развитии российского научного анализа положения в государствах Центральной Азии. Так, еще в 2010 году в сборнике докладов подготовленных МГИМО (У) МИД России по итогам конференции «Центральная Азия: актуальные акценты международного сотрудничества» присутствовали статьи, где ситуация в регионе рассматривалась в первую очередь с точки зрения потенциальной конкуренции России и изучаемых стран за рынки сбыта углеводородов. Лишь после рассмотрения которых разбирались уже достигнутые успехи в экономической интеграции [23]. Такая позиция вполне объяснима, исходя из ситуации в тот период, и ее изменение отражает коррекцию восприятия места России в Центральной Азии научным сообществом.
Ощутимым сдвигом стало также смещение акцентов в понимании национальных интересов России с чисто экономических приоритетов к проблемам безопасности. Так, специалисты Российского совета по международным делам в самом начале своей работы указывают, что интересы России в регионе в первую очередь продиктованы интересами безопасности. Такая позиция складывается, по все видимости, из анализа той активности и того огромного внимания, которое российское руководство уделяет развитию такой многосторонней структуры как Организация Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) [22].
Если СНГ в работах российских аналитиков упоминается, как правило, в ключе необходимости реанимировать это направление работы, то комментарии и деятельности ОДКБ по большей части положительные. Отмечается стабилизирующая роль организации в ситуации в Таджикистане в 2000-е годы, активность стран в рамках этой организации в борьбе с трансграничной преступностью и терроризмом. В то же время, эксперты признают и присутствующие в ОДКБ проблемы, в основном вызванные демаршами отдельных участников из-за проблем в двусторонних отношениях с Россией.
Особую актуальность всем направлениями деятельности ОДКБ, а также двустороннему сотрудничеству в сфере безопасности придало обострение ситуации в Афганистане после вывода контингента войск НАТО и нарастания последствий их неудачных действий в этой стране [25]. Так, РСМД провел целый комплекс исследовательских мероприятий по анализу новой ситуации после завершения афганской кампании США и их союзников [22].
Если как важнейший многосторонний орган поддержания безопасности в России рассматривают ОДКБ, то в остающейся на повестке дня сфере экономического сотрудничества важнейшая роль отводится Шанхайской Организации Сотрудничества. Важнейшей особенностью этого объединения является членство в нем Китая, что позволяет синхронизировать в определенной степени интересы и усилия двух великих держав в регионе.
Характерно, что близкий к российским структурам власти Институт стратегических исследований (РИСИ) еще в 2013 году выпустил сборник статей по итогам совместной с китайским коллегами конференции «Центральная Азия: проблемы и перспективы (взгляд из России и Китая)». В нем российские и китайские ученые высказывали свое мнение по важнейшим вопросам ситуации в Центральной Азии - вмешательству США, борьбе с наркотрафиком, энергетическим проектам, проблеме распределения водных ресурсов [24]. Можно констатировать, что поиск взаимопонимания и сотрудничества с Китаем в регионе уже несколько лет является императивом российской политики [31].
Таким образом, интересы России в регионе понимаются ведущими российскими экспертами в двух основных плоскостях.
Экономическое сотрудничество и интеграция . В анализе этого направления российского присутствия в Центральной Азии в последние годы произошел важные поворот, связанный с отходом от односторонних концепций. Страны ЦА перестали рассматривать исключительно как потенциальных конкурентов в борьбе за сбыт нефти и газа. Кроме того, работа в формате Шанхайской Организации Сотрудничества позволяет координировать усилия с КНР и комплексно смотреть на перспективы развития региона. Поэтому российские эксперты и дипломаты перестали воспринимать рост взаимосвязей стран ЦА с другими внешними партнерами как угрозу.
Проблемы безопасности и борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью . В этом плане упор делается на укрепление структур ОДКБ и двусторонние контакты с отдельными странами. Многие эксперты рассматривают проблему урегулирования ситуации в Афганистане также с точки зрения российских интересов в Центральной Азии. Прогнозы развития ситуации на этом направлении достаточно мрачные в плане расширения угроз и их деструктивного влияния.
Важно также понимать, что большинство экспертов и аналитиков не считают реализуемую сейчас Россией внешнеполитическую линию в Центральной Азии оптимальной и предлагают шаги по ее улучшению [22]. В них чаще всего идет речь о расширении сфер взаимодействия на новые отрасли, особенно культуру, образование и телекоммуникации. Важным шагом считают эксперты и реформирование системы экономического взаимодействия через повышение эффективности двусторонних связей и оказание точечной экономической помощи странам региона. Без такой модернизации в условиях напряженности в соседнем Афганистане перспективы российского присутствия в Центральной Азии станут туманными.
Аналитические центры ЕС о политике крупных игроков в Центральной Азии
Центральную Азию трудно отнести к приоритетным направлениям внешнеполитической деятельности Европейского союза и ведущих государств-членов ЕС. Тем не менее, в последнее время произошло определенное оживление интереса к данному региону, о чем свидетельствует деятельность Специального представителя Евросоюза по Центральной Азии. Европейские мозговые центры также стали уделять больше внимания центрально-азиатским исследованиям.
Особый интерес представляют публикации Института исследований проблем безопасности ЕС (European Union Institute for Security Studies, EUISS), так как «…Говоря о структурах внешней и военной политики Европейского союза, нельзя обойти небольшой коллектив парижского Института исследований проблем безопасности ЕС, который входит в систему Европейской внешнеполитической службы. Институт не только участвует в аналитическом обеспечении политики, но и служит важным органом популяризации политики Европейского союза» [26].
Можно условно выделить несколько направлений экспертных оценок и исследований сотрудников Института, относящихся к Центральной Азии:
-
1. Политика Европейского союза и отдельных стран-членов в ЦентральноАзиатском регионе.
-
2. Региональные процессы и тенденции, включая проект Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также мониторинг ситуации внутри государств Центрально-Азиатского региона.
-
3. Деятельность крупных держав в Центрально-Азиатском регионе (прежде всего, Китая, США и России) и ее соответствие интересам Европейского союза и влиятельных европейских стран.
В последнее время сотрудниками EUISS было подготовлено несколько аналитических материалов, посвященных центральноазиатской проблематике. Так, в статье «Переоценка отношений ЕС и Центральной Азии» (Recalibrating EU-Central Asia relations) анализируется текущие состояние отношений Европейского союза и его стран-членов с государствами Центрально-Азиатского региона и даются рекомендации пересмотреть существующие подходы к взаимодействию ЕС и стран Центральной Азии, в частности, в связи с геополитическими изменениями, происходящими в Центрально-Азиатском регионе, прежде всего, большей региональной вовлеченностью России и Китая, и пересмотром США своей стратегии в Центральной Азии [27].
Подчеркивается, что Европейский союз должен внести коррективы в свою позицию, в том числе в двусторонние и региональные инициативы со странами, которые не обязательно готовы сотрудничать по всем вопросам, представляющим интерес в Брюсселе. В контексте продолжающейся стратегической переоценки целей и инструментов общей внешней политики ЕС, а также подхода Евросоюза к своему окружению, стратегия в Центральной Азии представляет собой дополнительную возможность для ЕС и его государств-членов, задуматься о своих собственных интересах и роли, о коллективном видении в Центральной Азии и, самое главное, о способах и форматах, в которых будущее взаимодействие может быть активизировано, чтобы максимизировать его эффект [27].
На сегодняшний день Евросоюз разработал три региональных программы во главе с отдельными государствами – членами: «верховенство закона» (Франция и Германия); «вода и окружающая среда» (Италия и Румыния); а вот программе «образование», однако, еще предстоит найти своего куратора. Отмечается, что способность ЕС усилить свое влияние варьируется в разных странах Центральной Азии: расширенное Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном предполагает, что влияние ЕС здесь может быть усилено; Кыргызстан и Таджикистан остаются открытыми для участия, в то же время у ЕС по-прежнему не хватает рычагов в Туркменистане и Узбекистане – хотя он может продолжать осуществлять диалог, в том числе по демократическим реформам и правам человека, а также содействовать укреплению безопасности на границах [27].
Недавнее усиление деятельности Специального представителя ЕС в Центральной Азии может стимулировать политическую активность Европейского союза в регионе. Успешное решение задач спецпредставителя, к которым относятся: содействие политической координации деятельности ЕС в Центральной Азии, мониторинг хода реализации стратегии и поддержка региональной безопасности, вероятно, позволит Евросоюзу стать более заметным игроком в Центрально-Азиатском регионе.
Эксперты советуют ЕС быть более гибким в своих подходах, тщательно подбирать необходимые инструменты. Евросоюз и его государства-члены должны решить, какой формат будет предпочтительнее для каждой конкретной сферы деятельности. Это могут быть региональные, двусторонние форматы, а также программы, осуществляемые отдельными группами государств – членов. Кроме того, в меняющихся условиях Брюссель должен либо рассмотреть новые формы сотрудничества с Москвой – или найти ему альтернативы. Расширяющееся участие Китая в региональных делах ставит вопрос о том, может ли ЕС и его государства-члены реализовывать совместный с Пекином подход в Центральной Азии [27].
По мнению аналитиков института, США также в настоящее время пересматривают свой подход в отношении Центральной Азии, учитывающий региональные политические процессы, а также последствия военного сокращения сил в Афганистане. Американский подход, основанный на собственной стратегии «Нового шелкового пути», сосредоточен на укреплении безопасности, стабильности и институциональных реформах, стимулировании роста гражданского общества. Вашингтон продолжит уделять достаточное внимание региону, демонстрируя стойкую приверженность США обеспечению стабильности в Афганистане и шире, в Центральной Азии [27].
Аналитики Института также занимаются анализом политики России в Центральной Азии и реализуемым в регионе интеграционным проектам, таким как ЕАЭС и ОДКБ. В материале «Центральная Азия: взгляд из России» (Central Asia: the view from Russia) утверждается, что главной целью внешней политики Российской Федерации является создание многополярного мира, в котором Москва выступает в роли одной из ведущих держав. Авторы полагают, что с точки зрения Кремля, способность оказывать влияние за рубежом, или создать собственную сферу влияния превращает страну в великую державу. Именно через эту призму Россия рассматривает Центральную Азию и другие постсоветские территории. Таким образом, Россия разыгрывает сложную комбинацию, способствуя установлению минимального уровня стабильности в регионе, в то же время, стремясь сохранить и расширить свое политическое и экономическое влияние. Москва также стремится свести к минимуму вызовы своим интересам, как со стороны самих государств Центральной Азии, так и других великих держав, таких как Китай, США и, в меньшей степени, ЕС [28].
При этом утверждается, что укрепление центральноазиатских государств, с тем, чтобы они были в состоянии решать вопросы безопасности и развития, не является приоритетом внешней политики России. Вместо этого, Москва предпо- читает «ловить рыбку в мутной воде управляемой нестабильности», имея дело с соседними государствами, которые достаточно слабы, чтобы быть влиятельными, но достаточно сильны, чтобы остаться на плаву [28]. Более того, Россия находит этот метод полезным инструментом внешней политики во многих регионах на постсоветском пространстве – в Грузии, Молдове и, в настоящее время, на востоке Украины. Также утверждается, что Россия пытается ограничить присутствие других великих держав в регионе. Это, прежде всего, касается любых западных (т.е. американских и европейских) проектов в области энергетики и безопасности, против которых постоянно выступает Москва, с тех пор, как страны Центральной Азии получили независимость. Хотя Россия не рассматривает участие Китая в регионе благосклонно, она не выступает против него открыто. Эксперты института полагают, что Россия вряд ли способна эффективно ограничить Китай, и рассматривает любые потенциальные споры в регионе как локальное соперничество, которое не должно подорвать стратегические отношения Москвы с Пекином. При этом Россия пытается достичь своих политических целей с помощью сочетания дипломатических, экономических проектов и инициатив в области безопасности. Главными инструментами России являются ОДКБ и ЕАЭС. Кремль позиционирует себя в качестве единственного субъекта, способного противостоять региональным угрозам безопасности через ОДКБ и свое военное присутствие в регионе.
Кроме того, Москва не может и не готова экономически конкурировать с Пекином. Тем не менее, по мнению авторов доклада, возможно создание де-факто китайско-российского кондоминиума в Центральной Азии. В таком случае, Китай будет иметь возможность свободно получать в регионе прибыль в финансовом отношении, в то время как Россия будет сохранять решающее влияние на политическое и стратегическое поведение органов власти центральноазиатских стран через свою роль в качестве гаранта безопасности.
С точки зрения Москвы, такая ситуация будет обеспечивать ее основные интересы создания сферы влияния и ограничения участия Запада в регионе, а также позволила бы России не нести дополнительные расходы, необходимые для предотвращения коллапса в любом из государств Центральной Азии. Эту функцию мог бы взять на себя Китай за счет сочетания инфраструктурных проектов, инвестиций, и кредитов [28].
Также в Институте следят за развитием ЕАЭС. Например, в материале «Евразийский союз: восходящая или падающая звезда?» (The Eurasian Union: rising or shooting star?) утверждается, что центральный проблемой Евразийского экономического союза является экономическое неравенство между странами, конкретнее, доминирование России в ЕАЭС. Москва несет на себе основную тяжесть затрат на интеграцию, в основном за счет субсидий. В результате преобладающей роли России в этом объединении, состояние ее экономики неизбежно влияет на союз в целом, что было продемонстрировано на фоне продолжающегося спада экономики, привело к девальвации валюты и сокращению денежных переводов в странах ЕАЭС [29].
Согласно приведенным в исследовании опросам общественного мнения, в 2015 году поддержка евразийской интеграции снизилась в Армении (с 64% до 56%), Беларуси (с 68 до 60%) и Казахстане (с 84 до 80%). Кроме того, важными проблемами для участников ЕАЭС является отсутствие взаимного доверия и коллективного консенсуса в отношении сферы интеграции, а также расхождение интересов государств во внешней политике. Это привело к напряженности внутри союза и не позволяет его членам полностью интегрировать свои рынки и согласовывать общую внешнюю торговую политику [29].
Еще в одном материале Института подчеркивается, что Евразийский экономический союз рассматривается Москвой как средство расширения своего влияния в регионе. Делается вывод, что хотя теоретически Евразийский союз может способствовать сплоченности региона и препятствовать экспансии Китая и ЕС, его успех в качестве основы экономического развития сомнителен, учитывая фактор западных санкций, колебания цен на нефть и находящуюся в кризисе экономику России [27].
В последнее время аналитики Института более пристальное внимание стали уделять политике и интересам Китая в Центральной Азии. В одном из докладов подчеркивается роль «Шелкового экономического пояса» как части более широкого китайского стратегического видения, делающего Центральную Азию неотъемлемым элементом попыток Пекина усилить свои экономические связи с Западом. При этом интересы Китая простираются от укрепления стабильности, доступности ресурсов и рынков в Центральной Азии, до расширения торговых маршрутов в Европу. До настоящего времени, китайское вовлечение было в основном сосредоточено на экономических вопросах. Но проблемы безопасности все чаще становятся частью переговоров в основном за счет угрозы беспорядков и растущего экстремизма в китайском регионе Синьцзян [27].
Более предметно интересы Китая в Центральной Азии рассмотрены в аналитическом материале «Подъем Китая и безопасность Центральной Азии» (China’s rise and Central Asia’s security). Автор называет две основные региональные цели Китая в Центральной Азии, связанные с безопасностью.
Во-первых, предотвращение роста насилия в беспокойном Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и, во-вторых, защита китайских граждан и активов [30]. Экстремистские группировки мешают Китаю реализовывать свои региональные проекты. К примеру, боевики неоднократно нападали на китайские объекты в Афганистане и Пакистане и даже убивали или похищали китайских граждан. Поэтому, по мнению аналитика, Пекин в настоящее время отходит от своей чисто экономической политики и наращивает участие в обеспечении безопасности в большой Центральной Азии. Эта позиция была подтверждена в Белой книге 2013 г., в которой впервые в список приоритетов была включена защита китайских граждан и активов за рубежом. В антитеррористическом законе 2015 г. упомянута возможность отправки китайских военных и полицейских антитер-рористических миссий за рубеж.
Страны Центральной Азии важны для Китая как торгово-экономические партнеры и поставщики энергоресурсов. Торговля Китая с Афганистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Пакистаном составила около 61 млрд долларов в 2014 г. Регион имеет все большее значение для Пекина для диверсификации поставок энергии: Китай построил три трубопровода в постсоветских государствах Центральной Азии, а в 2014 году он приобрел около 53% импорта природного газа из Туркменистана и почти 6% из
Казахстана и Узбекистана. Казахстан также является крупным поставщиком урана в Китай (65% в 2014 году) [30]. И, наконец, регион является важной транзитной областью с 890 млрд долларов планируемых инвестиций в инициативу «Один пояс, один путь» (OBOR). Также отмечается, что усиление участия Китая в многосторонних структурах безопасности может в долгосрочной перспективе способствовать большей стабильности и процветанию в Центральной Азии [30].
В целом, по мнению, аналитиков Института, с географической и экономической точек зрения, Центральная Азия имеет значительный потенциал, чтобы стать ключевым маршрутом транзита и крупным экспортером энергоресурсов. Но препятствием на этом пути выступают авторитарные режимы, слабые институты и растущая угроза экстремизма в слаборазвитом регионе [27].
Таким образом, эксперты Института исследований проблем безопасности ЕС уделяют внимание исследованию проблем Центральной Азии и изучению политики ключевых региональных игроков. Аналитики рассматривают активность России, в том числе в экономической сфере (например, в рамках ЕАЭС) прежде всего, исходя из предположения, что главным мотивом Москвы является сохранение и укрепление своего регионального влияния. При анализе политики Китая в регионе отмечается постепенный дрейф Пекина от чисто экономических интересов и проектов в сторону инициатив в области безопасности. Что, однако, объясняется не только желанием сохранить стабильность внутри страны и у своих границ, но и необходимостью обеспечить реализацию собственных региональных и межрегиональных проектов. Эксперты института также подвергают критическому анализу политику ЕС и ведущих европейских стран в Центральной Азии и предлагают пересмотреть подходы к целям и механизмам сотрудничества и подумать над тем, каким образом могут быть согласованы действия европейских игроков с политикой России, США и Китая.
Список литературы Роль внерегиональных акторов в формировании новой геополитической реальности Центральной Азии
- Central Asia in a Reconnecting Eurasia-Kyrgyzstan. Center for Strategic and International Studies. URL: http://csis.org/publication/central-asia-reconnecting-eurasia-kyrgyzstan (13.04. 2016).
- Central Asia in a Reconnecting Eurasia-Kazakhstan. Center for Strategic and International Studies. URL: http://csis.org/publication/central-asia-reconnecting-eurasia-kazakhstan (13.04. 2016).
- U.S. Policy Toward Central Asia 3.0. Carnegie Endowment for International Peace. [Электронный ресурс]. URL: http://carnegieendowment.org/2016/01/25/u.s.-policy-toward-central-asia-3.0-pub62556 (16.06. 2016).
- Central Asia in a Reconnecting Eurasia: U.S. Policy Interests and Recommendations. Center for Strategic and International Studies. URL: http://csis.org/files/publication/150507_Kuchins_CentralAsia Summary Report_W eb.pdf (13.04. 2016)
- Johnson Ch.K. Recalibrating on China // 2015 Global Forecast: Crisis and Opportunity. - Washington: Center for Strategic and International Studies, 2014. - P. 73-75.